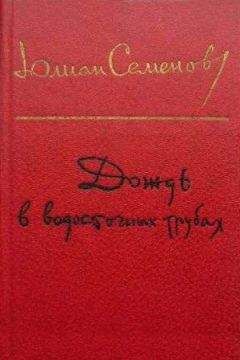Джером Сэлинджер - Собрание сочинений
Дорогой мой старый Тыгр, Который Спит,
интересно, много ли читателей листали рукописи, пока автор ее храпит в той же комнате. Эту мне хотелось увидеть самому. На сей раз твой голос был чуть ли не эдак чересчур. Мне кажется, проза твоя становится тем единственным театром, который способны выдержать твои персонажи. Мне хочется сказать тебе так много, а начинать неоткуда.
Сегодня днем я написал, по-моему, целое письмо не кому-нибудь, а завкафедрой филологии, и в нем звучал совсем твой голос. Мне стало до того прекрасно, что я не удержался и сообщаю об этом тебе. Отличное письмо. По ощущениям — как тот субботний день прошлой весной, когда я ходил на «Die Zauberflote»[337] с Карлом, Эми и этой очень странной девушкой, которую они мне привели, а я надел твой зеленый охмуритель. Я тебе не говорил, что его надевал. [Здесь он имел в виду один из четырех дорогих галстуков, которые я купил сезоном ранее. Я запретил всем своим братьям — а особенно Симору, который жил ближе всех, — вообще подходить к тому ящику, где я их хранил. Держал же я их — и лишь отчасти в шутку — в целлофане.] Совесть меня не мучила, когда я его надел, — только смертный страх, что ты вдруг выйдешь на сцену и увидишь меня в темноте зала в своем галстуке. Письмо же было чуточку иным. Мне пришло в голову, что будь все наоборот и ты бы писал письмо, похожее на мой голос, ты бы переживал. А мне по большей части удалось не задумываться. На свете немного осталось такого, за исключением самого этого света, что печалит меня каждодневно, и в том числе — понимание, что ты расстроишься, если Тяпа или Уолт тебе скажут, будто ты говоришь похоже на меня. Ты как бы воспринимаешь это как обвинение в пиратстве, легкий пинок твоей индивидуальности. Так ли уж плохо, что мы бываем похожи друг на друга? Мембрана между нами столь тонка. Так ли нам важно никогда не забывать, где чье? В это же время два лета назад, когда меня очень долго не было, мне удалось проследить, что ты, 3. и я были братьями не менее четырех перерождений, а то и дольше. Разве нет в этом красоты? Разве не каждая наша индивидуальность начинается в аккурат там, где мы откровенно признаемся в близости и согласны с тем, что заимствуем друг у друга шутки, таланты, глупости, и это неизбежно? Заметь, галстуки я не поминаю. Я считаю, галстуки Дружка — это галстуки Дружка, но заимствовать их без разрешения — в удовольствие.
Тебе, должно быть, не очень приятно думать, что у меня на уме, кроме твоего рассказа, какие-то галстуки и прочее. Это не так. Я просто рыскаю повсюду, мысли ищу. Я полагал, что мелочи эти, быть может, дадут мне собраться с духом. Снаружи день, а я сижу тут с тех пор, как ты лег спать. Какое блаженство — быть твоим первочитателем. Блаженство было бы несгибаемым, если бы я не считал, что ты мое мнение ценишь превыше своего. По-моему, все — таки неправильно, что ты столь упорно полагаешься на мое мнение о своих рассказах. То есть — о тебе. Переспоришь меня в другой раз, но я убежден, что сделал что-то очень неправильное, раз ситуация у нас такова. Я не вполне сейчас каюсь, но муки совести есть муки совести. Они никуда не деваются. Их нельзя отменить. Их, кажется, даже нельзя до конца понять — их корни уходят слишком глубоко в личную и долгую карму. Стоит мне ощутить эти муки совести, и шкуру мою спасает примерно лишь одно: они — несовершенная форма знания. Но лишь потому, что форма несовершенна, от нее же не стоит отказываться. Главная трудность — использовать ее практически, пока она тебя не парализует. Поэтому я запишу то, что думаю об этом рассказе, как можно быстрее. Когда я спешу, у меня возникает могучее ощущение, что совесть моя здесь работает на совесть. Я правда так думаю. Я думаю, что если потороплюсь, может, получится сказать тебе то, что я, вероятно, хотел сказать тебе много лет.
Ты сам должен знать, что в рассказе твоем полно прыжков. Скачков. Когда ты только лег спать, я некоторое время думал, что мне следует разбудить всех в доме и закатить вечеринку в честь нашего изумительно прыгучего братца. Что же я такое, если всех не разбудил? Вот бы знать. В лучшем случае — опасливый человек. Я опасаюсь больших прыжков, которые могу отмерять глазами. По — моему, мне снится твоя дерзость — взять и прыгнуть прочь с глаз моих. Прости мне это. Я теперь пишу очень быстро. Мне кажется, этого своего нового рассказа ты долго ждал. И я, в каком-то смысле, тоже. Знаешь, мне сейчас не дает уснуть главным образом гордость. По-моему, это главное мое опасение. Во имя самого себя — не делай так, чтобы я тобой гордился. Мне кажется, именно это я и пытаюсь сказать. Только б ты больше не заставлял меня сидеть допоздна из гордости. Дай мне такое, от чего моя неразумная бдительность возьмет и проснется. Высыпали все твои звезды — так не давай же мне спать до пяти. Извини подчеркивание, но я впервые говорю о твоих рассказах так, что голова у меня подскакивает. Прошу тебя, больше не позволяй мне говорить. Сегодня мне кажется: что ни скажи писателю, умолив его выпустить на небо все звезды, выйдет просто литературный совет. Сегодня я убежден, что любой «полезный» литературный совет сродни Луи Буйе и Максу дю Каму, навязавшим Флоберу госпожу Бовари,[338] и только. Ведь лишь эти двое с их изысканным вкусом заставили его написать шедевр. Они навеки помешали ему изливать душу на бумагу. Он умер знаменитостью — а таковой он вообще не был. Письма его невозможно читать. Они намного лучше, чем им следовало бы. Читается в них: впустую, впустую, впустую. От них у меня сердце кровью обливается. Я в ужасе от того, что могу сказать тебе сегодня, дорогой мой старина Дружок, нечто помимо банальщины. Прошу тебя, иди, куда ведет душа, выигрывай или проигрывай. Ты рассвирепел, когда мы регистрировались. [Неделей ранее он, я и несколько миллионов других молодых американцев, отправились в ближайшую среднюю школу и зарегистрировались в призывной комиссии. Я уловил, как он улыбается, когда я что-то написал у себя на бланке. Всю дорогу домой он отказывался сообщить мне, что его так рассмешило. Как может засвидетельствовать любой член нашей семьи, он способен быть несгибаемым отказчиком, когда случай видится ему благоприятным.] Знаешь, чему я улыбался? Ты написал, что писатель по профессии. Мне показалось, что красивее эвфемизма я в жизни не слыхал. Когда это писательство успело стать твоей профессией? Оно же всегда было для тебя только религией. Только. Я сейчас немного перевозбужден. Поскольку это и есть твоя религия, знаешь, о чем тебя спросят, когда умрешь? Но давай я сперва скажу, о чем не спросят. Тебя не спросят, писал ли ты что-то чудесное и трогательное, когда умер. Не спросят, длинной была эта работа или короткой, смешной или грустной, напечатали ее или нет. Не спросят, в хорошей ты был форме, когда писал, или в плохой. Тебя даже не спросят, та ли эта единственная работа, которую ты бы писал, зная, что жизнь твоя завершится, едва допишешь, — мне кажется, только беднягу Сёрена К. об этом спросят. Я вполне уверен, что тебе зададут лишь два вопроса. Много ли высыпало твоих звезд? Изливал ли ты душу на бумагу? Знал бы ты, как легко на оба вопроса ответить «да». Вспомнил бы, еще не сев писать, что читателем ты был задолго до того, как стать писателем. Просто заруби себе это на носу, а потом сядь тихонько и спроси читателя в себе, что из написанного на всем белом свете больше всего хотелось бы прочесть Дружку Глассу, если б выбором ведала его душа. Следующий шаг кошмарен, но так прост, что аж не верится. Просто сядь бесстыже и напиши ее сам. Это я даже подчеркивать не стану. О посмей же, Дружок! Доверься душе. Ты же мастер, ты этого заслуживаешь. Душа тебя никогда не предаст. Спокойной ночи. Мне теперь как-то чересчур уж возбужденно и немножко театрально, но я бы, наверное, отдал чуть ли не все на свете, лишь бы увидеть, как ты пишешь — что угодно, рассказ, стихотворение, дерево, — и оно взаправду и поистине ведомо твоей душой. «Банковский сыскарь»[339] в «Талии». Давай возьмем всю компашку завтра вечером. Целую, С.
На странице снова Дружок Гласс. (Дружок Гласс, разумеется, — всего лишь мой псевдоним. Мое настоящее имя — майор Джордж Филдинг Антикульминацинг.)[340] Мне самому как-то чересчур уж возбужденно и немножко театрально, и любой мой разгоряченный импульс в эту секунду подвигает меня литературнозвездно пообещать читателю нашу встречу завтра ввечеру. Но если, как мне кажется, я смышлен, я просто почищу зубок и побегу баиньки. Если длинный меморандум моего брата читать оказалось довольно тяжко, не могу сдержаться и не добавить, что его перепечатка для моих друзей совершенно меня измотала. В сей момент на мне тот симпатичный свод небесный до колен, кой он предложил мне как подарок, чтоб я давай-быстрее-выздоравливал-после-этой-своей-желтухи-и-малодушия.
Но будет ли с моей стороны необдуманно сообщить читателю, чем я намерен заниматься, с завтрашнего вечера начиная? Лет десять или больше я мечтал, чтобы кто-нибудь без особой тяги к кратким, четким ответам на лобовые вопросы спросил бы у меня: «А Как твой брат Выглядел?» Короче — такой писаниной, «чем-то, чем угодно», с коей, как подсказывает мой рекомендованный авторитетный орган, мне больше всего понравится свернуться калачиком, — полным физическим описанием Симора, кое предпримет тот, кого не подпаливает спешка побыстрее скинуть эдакую обузу, а говоря должным образом бесстыдно — я.