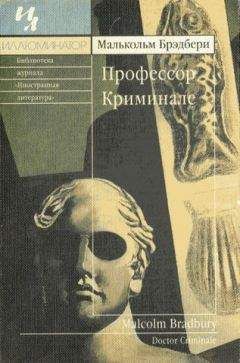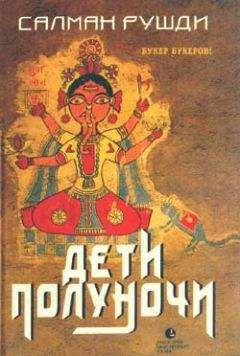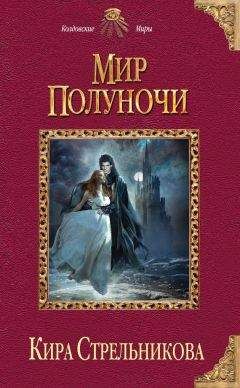Сергей Самсонов - Проводник электричества
— Нашелся, значит, против лома лом. Кто поработал? — Ничего, кроме вялого любопытства, не чувствовал.
— Один из моих душегубов. Казюк, больше некому. Ребятишек послал объяснить, кто есть кто.
— И что теперь? Теперь уж точно нету смысла говорить тебе остановиться?
— Он заднюю включать не собирается. Не я с ним — он со мной не закончил.
— Извините, я это… пойду. — Иван, помявшись, отпросился и припустил по направлению к главному корпусу.
Вдвоем остались у ворот; чумазо-смуглый таджикский дворник в оранжевой жилетке с гербовой бляхой скреб прутьями по тротуару, гнал в кучу мелкий мусор здоровых и больных, конфетные обертки, замшелые окурки, пачку красного «Винстона» всмятку.
— А где твоя тачка бандитская?
— Пострадала при конфликте сторон.
— Ты смотри! Неужели сожгли казюковцы?
— Сам продырявил, когда в них шмалял.
— Даешь, мент. Ну, прямо разборка в маленьком Токио. Ну так, значит, война? По понятиям… ветхозаветным?
— По ним. Всеми средствами. Тот лейтенантик из дежурки, который Машке «Скорую»-то вызвал, теперь лежит с пробитой головой в больнице… вот просто за то, что в тот момент повел себя как человек. Вот посчитались с ним. Это каким же мозгом надо обладать, чтоб так?
— Он непростой, насколько я понял.
— Да уж куда непроще. Сын генерала, шефа моего, товарища, с которым мы полжизни в розыске.
— Послушай, гора наломанных дров, она кому нужна? У тебя дочь, — кивнул Камлаев на главный корпус.
— А ты чего приперся-то? С Иваном?
— Тебя искал. Сдаться хочу. Посади меня, что ли.
— Это за что?
— За изнасилование собственной жены.
— Во как! Не помогло, выходит.
— Выпьем? Если башка, конечно, не болит и печень не отбили.
— Пойдем на Машку взглянем хоть одним глазком. Прикроешь меня, если что…
По длинному стеклянному, залитому горячим светом коридору он шел, поигрывая трубкой; Нагульнов следом хромылял, скрипя зубами от боли в треснувшем ребре; послышались капель, журчание ручейка во внутреннем саду — аквариуме, полном магнолий, пальм, рододендронов, померанцев, олеандра; медсестры вывозили на колясках сюда, под сень, к журчанию, больных — обритых наголо мужчин и женщин, и молодых, и стариков, в сиреневых халатах, с обмотанными длинным креповым бинтом преувеличенными головами; одни, с остановившимися, выстывшими лицами, сидели под терапевтической тропической сенью и ничего не видели; другие улыбчиво грелись на солнце, которое шло сквозь стеклянную крышу, — взгляд, обращенный внутрь, во внутреннюю даль, легкая зыбь мечтательной улыбки, любования своей возобновленной, продленной, еще только готовящейся жизнью. Вот что им возвращал отец, Камлаев вдруг вспомнил со слабым сердечным ожогом…
— Сидят, голубки, — каким-то неопределенным тоном сказал Нагульнов, прячась за Камлаева.
Сквозь растопыренные пальцы глянцевитых папоротников, сквозь многоярусный объем просвеченной листвы они смотрели на своих детей: Иван да Марья плечом к плечу сидели у фонтана, у переполненной — тягучая вода лилась через края — каменной чаши, молчали и питались этой тишиной, безостановочным безмолвным говорением друг с другом… почти соприкасались головами как будто с ясным обещанием посмотреть сегодняшней ночью один сон на двоих, и в этом не было нисколько ощущения скоротечности, бессилия зачаточного счастья, блевотной этой вот сентиментальности — того, что так Камлаева обыкновенно раздражало в живых несмышленых зверьках, даривших на святого Валентина друг дружке розовую плюшевую живность от щедрости штампованных рекламой мозгов.
Иван гляделся сумрачно-серьезным, берегущим, его зазноба — пери, одалиской: тугой тюрбан повязки на бритой голове, оттеняющий смуглую бархатистую кожу, чуть-чуть припухлые подглазья, огромные персидские глаза — голодные и в то же время заливающие мир горючей сытной согревающей лаской (колодцы, полные бесстыдства и гордости, достоинства одновременно). С чем, с чем, а с деткой для Ивана он, Эдисон, убойно, целиком не прогадал…
Нет, она не могла пребывать в неподвижности долго; свои часы ей надо было заводить гораздо чаще, через раз в неделю, как покойному Камлаеву, — да, раз в минуту, в дление кратчайшее качнуть запястьем, щиколоткой, заломить, потягиваясь, руки; не в силах больше усидеть, молчать, она берет Ивана за веревки на толстовке — вот этот жест царицы, госпожи, хозяйки из мирового MTV-шного сверхклипа, она его воспроизводит пародийно, и все выходит у нее с какой-то совершенной, беспримесной свободой, музыкой правды, равенства самой себе. Что есть величайшее создание Господа? Женщина. Или ребенок. Они о чем-то говорят, долетают обрывки:
— …есть запись моей операции — как там все внутри?
— Ну, есть… зачем тебе?
— Хочу посмотреть.
— Уверена? Вообще-то, зрелище не самое приятное. Ничего страшного, конечно, но все-таки на любителя.
— Хочу посмотреть, что творится в моей голове. И да, на вынутое сердце тоже… как оно вот сжимается в руке — тух-ту-ду-дух, тух-ту-ду-дух!..
У Нагульнова вырвался то ли всхрап, то ли всхлип.
— Хочу посмотреть на мозги твоими глазами. Как видишь их ты.
— Зачем?
— Должна же я видеть то, чем ты будешь заниматься всю сознательную жизнь.
— Зачем тебе смотреть?
— Ты что тупой — зачем? Тупой такой, да? Совсем тупой, тупотней не бывает. Тупейный художник.
Сейчас она скажет, что вырвет свои и подставит твои… глаза, мозги, сердце — обычно с этого все начинается. Потом приходится столкнуться с технической невыполнимостью заявленных намерений.
3
То, что увидел, подняло в его душе какой-то детский, навсегда, казалось, улетучившийся страх. Не то чтобы он был таким большим поклонником кошмаров — заслышать шорох забирающих шагов и надорваться криком при виде широко блеснувшей стали треугольного кухонного ножа, — но что-то все-таки такое ожило, как в детстве, когда сидишь в обрыдшем пионерском лагере или в больнице, излечившись от бронхита, и ждешь приезда матери, которая должна ворваться в затхлое пространство облаком духов «Шанель» и обнести тебя волной морозной свежести, неистребимого любовного тепла, забрать к себе, в свой свет… и все не едет, нет ее и нет… Всех разобрали, только ты остался, забытый, незатребованный в рай, и начинаешь думать нехорошее, потом — чудовищное, дикое, беду, которая, отъевшись на твоем бреду, приобретает очертания, объем, естественные краски: неуправляемый «КамАЗ», слепяще, заслоняя целый мир, рванул навстречу многотонной массой, ударил в лоб или заставил таксиста отвернуть, и «Волга» с «шашками», вильнув и протаранив парапеты, летит и рушится на дно реки или грохотко кувыркается по склону и расцветает, фыркнув, огненным цветком. А он ведь маму совершенно не любил — это смешно назвать «любовью», причину твоего возникновения, целости и сытости — и как-то мог ее, все время, обижать и специально не идти домой, чтобы подумала, что потерялся, пошла искать по улицам, готовая метнуться, наброситься, ощупать с ног до головы… так это становилось вдруг смешно, непостижимо: что мама не принадлежит себе и вечно служит целиком тебе, вот даже не по-рабски, а даже и не знаешь, как сказать, как она служит. Ты мог бы быть каким угодно — рахитичным, уродливым, слепым, косым, немузыкальным, безмозглым, слабоумным, одноногим, — и это ничего не поменяло бы, и как ты мог об этом никогда не думать — на то и дар, чтобы достаться совершенно даром, вот просто мамы не могло не быть.
Вот и теперь незнание, что с Ниной сейчас творится, неодолимо понемногу перешло, как в детстве, в пытку взбесившимся воображением. Смех смехом, но накрыло, никак не мог он пронырнуть, отделаться, рука сама тянулась к трубке — не ответит… а если в «Гелиос», а если на домашний — незнание разожмет холодно давящие челюсти, оставит налегке, в покое.
4
— Н-да, с опережением графика пацан идет, — сказал Камлаев, чтобы что-то сказать. — Или, может, ты против? Не нравится?
— Щенок еще, глина. Жизнь не била совсем. Породниться, конечно, с таким знатным семейством — честь окажешь мне, барин… с родословной щенок. Пусть воркуют пока, ну а там поглядим. Ему сколько? Восемнадцать хоть есть?
— Гайдар в шестнадцать лет полком командовал.
— А это поколение до сорока в манеже ползает. В ползунках вот буквально — бородатые дяди в рейтузах и такие же тети с помпончиком в жопе. Как они думают, чем? Ну, вот все им смешно. Лишь бы только поржать и потыкаться мясом в мясо… вернее, резиной в резину… чтоб без последствий, да. Спарили мозг с мобильным телефоном, так что уже самостоятельных усилий никаких не могут. Только сосать, вот только рот и жопа. Мозг запечатан представлением, что что-то непременно у них должно быть такое. А откуда должно? С каких это хренов? Напрягись, заработай. Нет, надо как-то так, чтоб у них появилось само. Хоромы, тачки, вещи — это все понятно… чтоб кожаный пиджак и бикса попышнее, побольше кус урвать и грызться за него — это понятно, это жизнь живая, на этом мир стоит. Но эти гаджеты, девайсы, лакшари-хуякшари — вот это что? Это можно потрогать? Каким, скажи мне, местом это можно есть? Где, можешь мне сказать, у человека дырка есть такая, в которую все это можно запихнуть? И главное, у них же в этом, только в этом смысл: не будет нового товара — не будет человека. А все остальное им по хую. Им по хую, что они жрут, им по хую, что у соседей варят ширку, что самолеты падают и трубы прорывает, что завтра всех зальет до верхних этажей говном, для них гадить там, где завтра будут жить их дети, — это нормально, не вопрос, не смысл существования, поскольку смысл весь ушел в названия, в обозначения пустоты, в наклейки-этикетки. А он вон не знает, что такое девайсы. — Нагульнов показал на все того же коренастого чумазого таджика, который скреб и скреб метлой по аллее, — он еще обезьяна, он еще не примкнул к высшей расе, он знает только то, что у него в ауле остались старенькая мать, жена и двадцать человек детей мал мала меньше и что он должен каждый месяц посылать им бабки. Сегодня мне мизинцем стоит шевельнуть, чтоб от него только мокрое место осталось. А завтра этому туркменбаши достаточно будет лишь пальцем. Он скажет: кто ты? здесь моя земля. Однажды мы проснемся и увидим, что все здесь делают они — кладут кирпич и выпекают хлеб — мы ничего не делаем. Чего-то я съехал, по-моему, да? Но ты скажи мне все-таки, скажи, как развязаться с этим блядством, покончить с этим чертом, который всюду и нигде? Я даже не о том, что в этом жирном городе, в стране честным трудом каким-то, да, и чисто исполнением долга ты ни за что не проживешь, и должен вымучивать деньги из стада, чтобы с тобой считались, чтобы никто не мог с презрением на твоего ребенка посмотреть. Не говорю сейчас об этих сальных рылах с мигалками на «Гелендвагенах» и номерами АМР, о всех этих властях предержащих, скотах, которые тебя размажут по асфальту, и ты же еще будешь виноват, что выполз на зеленый на проезжую… чтоб что-то противопоставить им, ты должен иметь власть и деньги, много: чем больше их будет, тем тяжелее твой кулак, без них ты пальцев не сожмешь, без них ты развалишься. Как я живу, за свои методы — за это я вполне готов ответить. Я видел многое, такую жесть, до людоедства, и мне никогда не было страшно. А вот сейчас мне страшно. Придавило. Такое чувство, что не выбраться, что некуда. Вот этот общий вес неправды, когда вот это блядство, как воронка, в себя засасывает все, с яслей, с детсада начиная, когда вот этот черт имеет в мозг наших детей и раздвигает ноги нашим женщинам, а те уже и сами довольны и кричат: «Да, да, давай, давай возьми нас!». Вот постоять не то чтобы за человека… за зверя постоять в себе, на честности самых последних инстинктов живых удержаться хотя бы, лишь бы вот этой слизи не было, которая продаст и кончит, насосется и кончит, и так без конца. Без страха, без возможности взглянуть на самого себя со стороны и страх почуять, ну хоть какой-то страх. Или, быть может, вообще должно все кончиться, сгореть, подохнуть, очистить землю от себя, уж если нет возможности обратного движения. Скажи… ты — умник, голова… скажи.