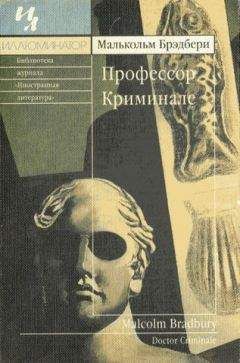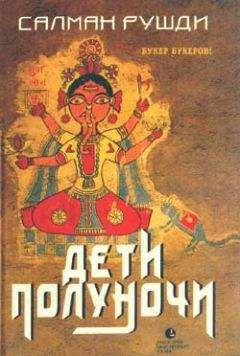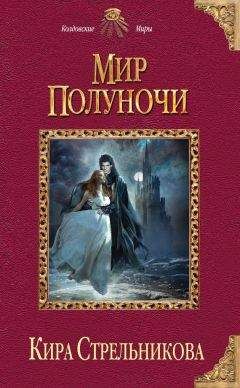Сергей Самсонов - Проводник электричества
«Ты что?» — спросил кивком и округлением глаз. Лицо Мартышкино изобразило «сама, сама пока не знаю», глаза отчаянно скосились вверх и влево — на кабинет отца, как на икону.
На кухне мать сидела как стеклянная, налитая прозрачным страхом по самые глаза — пошевелиться, дрогнуть: вот если двинется, рассыплется в куски; лицо перехватили оскорбительно-чужие, явившиеся прежде времени морщины. Оплывшей снежной бабой, кучей, будто дождавшись конца света, обвалилась на маленький диванчик домработница теть Таня… да что же это, вашу мать, такое, будто корова языком, слизало весь наш домашний строй, покой, свободу?
Мать подняла невидящие жалкие глаза, и Эдисон подумал вспышкой: мы нищие, до нитки нас обворовали… кто, как обворовал, об этом он не думал, и вечность спустя подивился нелепости и в то же время точности такой своей догадки: все было на своих местах, нетронутым, не взломанным и не раскиданным, но в то же время тут другая, не денег и вещей, явилась нищета — тяжелый темный дух неправомочности обычной их домашней жизни.
Не говоря ни слова, не слыша запретительного шиканья Мартышки, Камлаев двинулся напропалую к захлопнутым дверям в отцовский кабинет: он, кажется, понял, он знал, что увидит — мертвецки пьяного, мертвецки трезвого отца, прошедшего все стадии опьянения: залитый белым ровным светом стерильный операционный стол и гладко выбритую голову — вот что он видел, отец, сквозь призраки домашних — и поле операции как эпицентр землетрясения, заснятый с воздуха, как план творения внутричерепного мира, который надо привести к порядку, так, чтобы угрожающе трепещущий багровым очаг злокачественной опухоли, непогрешимо иссеченный вместе с окружающими тканями, исчез в сопящих недрах мощного отсоса. Но только так бывало, что ничего поправить не могли вот эти мощные, крестьянской лепки руки с кустистой рыжеватой порослью на всех фалангах крепких толстых пальцев. Не задрожать могли, не промахнуться, двигаясь по тонкой, с какой-то волосок, с микрон, единственной возможной линии меж слепотой, каталепсией, параличом и возвращенной, восстановленной жизнью… нет, доступом отец не ошибался, функциональных областей не задевал, но так бывало, что и операция, исполненная чисто, не помогала умиравшему.
Таким вот страшно пьяным, до прозрачности, и был отец, когда ему кого-то приходилось отдавать туда. В такие редкие минуты он и смотрел на Эдисона будто сквозь толщу полувека, прожитого во власти, которую никто не свергнет, и в унизительном бессилии, в котором его, отца, никто не обвинит… сквозь всю тщету «иссечь» и «тампонировать», «ушить» и «сделать перевязку лигатурами», и так страшна была вот эта последняя беспомощность отца, что больше ничего перед глазами у тебя не оставалось.
Он мог, он должен был привыкнуть и привык — железный человек, без нервов, свободно говоривший о блеснах и мормышках «сразу после»: если задуматься надолго, то и руки, фрезы не сможешь вообще поднять, так что пусть будет это вот отцовское отъявленно циничное «жмуры налево, уцелевшие направо». Казалось бы, чего такого он не видел за тридцать восемь лет сплошной работы, но и теперь порой приключались случаи с отцом из ряда вон, вот тут-то мать и становилась ломкой, как стекло, вот тут-то все семейство их и замирало.
Камлаев помнил:
«Послушай, брат, я что тебе скажу, не надо бы, но все-таки скажу… был у меня один больной, здоровый мужик, исполин и красавец, физически был сотворен на роль самца в стаде, с таким, прости за сплетни, причиндалом, что все мои медсестры специально на этот хобот приходили посмотреть… пока в сознании был, зубами скрежетал, и не от боли, брат, — от унижения, от гнева на свое бессилие… и вот вся эта мощь, отменная воля, недюжинный ум, все, вместе взятое, вообрази, не может жить, не может умереть, мы дышим за него, мы кровью мозг ему снабжаем — неделю, месяц… можно так до бесконечности, без перепадов состояния, бессмысленно, как наполнять дырявую посудину, он не жилец, своей волей, рассудком уже не может ничего решать, мы за него решаем, понимаешь? Я многое жизни простил, но этого нет, не прощу, нет ничего паскуднее, чем заталкивать насильно в человека жизнь. Когда ты точно знаешь — все. И знаешь, брат, сегодня, я переступил, сегодня я себе присвоил право. Прокрался ночью и прервал. Поскольку хватит издеваться. Так что я уголовничек теперь, вещички можно мне на Колыму. Это огромный нравственный вопрос, которой разрешения не получил. У них же в каждом госпитале там распятие, молебны служат, да, и все такое прочее. У нас вообще не до того: у нас на тонны чугуна и стали традиционно человеческую массу переводят, стране здоровые нужны, а перешел в разряд больных — уже без разницы, хочешь — живи, а хочешь — умирай, по усмотрению врача, по моему то есть усмотрению, стало быть. Попы одно толкуют, у них божественный закон, а естество, нутро совсем другое говорят. Зачем же, если кончено, мучения длить и длить, держать в бессилии человека, в собственном дерьме, зачем же унижать его вдобавок к самой смерти? Смерть — это ведь еще и унижение в каждом пятом случае, ползучее, мотающее, долгое. А ну он сам попросит его от унижения избавить, еще по эту сторону? Меня просили, чуяли последним проблеском сознания, что не жильцы, что все, что дальше, — только мука. Запрет есть человеку определять чужие сроки? Нет, братцы, нет, давайте до конца идти — тут или медицина, или мракобесие. Что это за любовь такая — смиренно принимать ниспосланные муки? При чем тут послушание и смирение? У нас закон один, простой, как гвоздь по шляпку, — облегчать. Втащить обратно человека в жизнь, а если нет такой возможности, тогда уж выпихнуть из жизни. И он же сам тебе за то «спасибо» на издыхании последнем прохрипит, за облегчение, за освобождение. Я для себя тут все решил, и я за это вот вполне готов ответить. Что человек подлец природный, вот в чем незадача. А ну начнут под это дело, под маркой облегчения мук, своих лежачих, инвалидов, стариков в могилу спихивать… чтобы хлопот поменьше, чтоб жилплощадь расчистить под забавы молодых, чтоб не смотреть, не обонять, не слушать… ох, и непросто это, брат, смотреть чужую родственную смерть и видеть сквозь нее свою».
Тогда-то Эдисон впервые по-настоящему увидел отца в неодолимой дали от себя: на той он высоте стоял, отец, куда не мог подняться сын по самой своей природе, виду никогда… избранником боли стоял, не могущим переложить хотя б частицу своей работы на чужие плечи.
Вот и теперь, и при сегодняшнем переполохе в доме, он думал, что с отцом стряслось что-то подобное — вошел в прокуренный отцовский кабинет: дубовые шкафы с тяжелыми томами, которые ребенком он разглядывал со сложным чувством хищного восторга и стыда — неправомочного прикосновения к запретной части жизни, сокрытой под телесными покровами… подробности анатомического строения голой бабы, раздетой и раскрытой для ознакомления, будто устрица, влекли его до гула крови… отец, его застигнув над темным кратером меж разведенными толстенными ногами, не думал греховодника стращать и нахлобучивать, уселся рядом и повел рассказ, как называются все эти складки, валики, отросток, что там таится, в темноте расщелины, и как вертлявый длиннохвостый головастик добирается до яйцеклетки, окруженной лучистым нимбом из фолликул, и как растет впоследствии ребенок, и как они, Мартышка с Эдисоном, поочередно причинили матери немало треволнений, тягот, боли. За неимением педагогического навыка он говорил с Камлаевым как с ровней, будто нисколько не заботясь о том, какой слизью обрастут в сознании Эдисона все эти им, отцом, бросаемые камешки.
2
Отец сидел над толстой тетрадью в клеенчатой обложке, низал на нитку беспокойной мысли чернильный бисер множащихся строк, был этим болен с юных лет — писанием вопросов и ответов, в одно и то же время исповедью, спором с коммунистической партией и Богом и тренировкой, дрессировкой себя, косноязычного, полунемого, полуграмотного.
Камлаев зашел со спины, обогнул и, плюхнувшись в кресло напротив, увидел прежнего, всегдашнего, обыкновенного отца — тогда в чем дело? что за хрен? — все те же мускульные плиты, валуны, все те же щеки, подбородок, бритые до кости, все та же жесткая, широкоскулая физиономия, которая порой становится похожей в профиль на гравированную морду ярящегося льва с латунной пряжки толстого отцовского ремня, который с первых проблесков сознания приводил Камлаева в восторг — лишь у отца и мог быть такой ремень, с такой гравировкой, со львом — будто тотемным знаком, будто родовой камлаевской тамгой.
— Ну, как тут твоя «Малая земля»? — Камлаев, все еще не понимая смысла семейного оцепенения, скорее торопясь расставить точки, бросил первое, что ему в голову пришло, обыкновенное, насмешливое, тоном, которого они с отцом держались уже вечность.
— В большую разрастается, — отец ответил в тон. — Боюсь, закончить не дадут, — и, подняв голову, взглянул поверх очков обыкновенно-цепкими, умевшими вклещиться и не отпускать глазами. Мелькнуло что-то в них, возникло на дление кратчайшее — какая-то злость, сродни тому обычному, здоровому, спокойно напирающему гневу, что поднимался в нем ответом на скудоумие и непроходимое упрямство десятков вставляющих палки в колеса, тех, кого звал он «промокашками» и «каменными жопами» — чинуш, инстанций, министерств, коллегий, чья функция единственная — самосохранение… бодаться ему часто приходилось с такими, запрещающими росчерком пера или дающими добро на новый корпус нейрохирургического института, на современную модификацию столов-трансформеров, которые нужны были отцу, как шило и дратва сапожнику… тут, в этом был Камлаев на отца похож, настолько, что порою с изумлением застигал себя на этом совершенном сходстве, не уставая поражаться, насколько полно и неудержимо в нем проступил, Камлаеве, отец: все до биения мелкой жилки на виске — оскал, слова, гримасы, интонации — у Эдисона становилось вдруг отцовским, так, будто никакого Эдисона отдельного и не существовало, а просто вот отец нашел в нем, Эдисоне, новое вместилище, втолкнувшись своим норовом, повадкой и заполняя, будто ртутью градусник, будто нога — сапог.