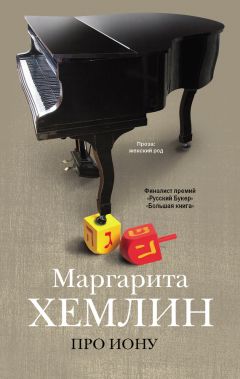Наталья Иванова - Новый Белкин (сборник)
Ну и конечно, как полагается всякому, мнящему себя писателем, работаю над романом (даже над двумя), прерываясь на монографию по физике. Перерывы длятся годами, поэтому оба воза и ныне там. Тем временем работа в газете постепенно вымывает из сознания убеждение, что литература сегодня нужна. Возникает кощунственная инициатива, которую, слава богу, некому воплотить – а не дать ли литературному полю отдохнуть под паром одно поколение? Но если начинать – то, конечно, с себя. Пока не получается. Тогда и говорить не о чем. А значит – буду продолжать засорять ноосферу по мере сил.
Повесть «Ничья» вошла в шорт-лист премии Белкина за 2008 год.
НИЧЬЯ
Вместо предисловия
...Вождь своих слов неприхотлив. Он пишет на простом клочке бумаги, подложив, подстелив под него коленку. Огибая ее рельеф и редкие еще капли, которые сеет на бумагу небо, и забыв горящую на спичечном коробке сигарету, он спешит, пока не иссяк интерес к уложению предложений. Молодость вдруг выглянула из-за угла с испачканным мастерком, – ах, как он умел заводить углы, как тянулись они друг к другу, планируя траекторию встречи – чуть пьяную от предстоящего счастья, и ее кривизна вселяла страх и скепсис в посторонних, – и теперь самое время вспомнить...
Но, рассматривая задуманное, стоит объясниться с кредиторами. Прав был критик Г., говоря: они еще не знают, как вы вредоносны – растлите надеждой и бросите. И вот бросает. Когда-то он обещал показать им те края, где тексты страшны и прекрасны в своем животном напоре, он призывал принять их красоту даже брезгливых, которым противны идущие сплошным шевелящимся ковром лемминги: осознайте величественность их цели – океан, в котором они сгинут; или тараканы, мигрирующие из холодного дома в теплую баню прямо по снегу – рыжая дорога соединяет тепло и холод, усики топорщатся как французские штыки, яйца торчат из яйцеводов смыслов и выпадают, – все это один организм, и он абсолютно разумен в своей безумности. Нет ничего более сладкого, чем пустить два потока навстречу, чтобы битва и пожирание, гигантский кровавый палиндром, пустеющий на глазах удивленного творца, аннигиляция тез и антитез, – и, наконец, – белая пустыня, усыпанная усиками и ножками, и солнце садится, удовлетворенно краснея. А вы хотите мне зла, хотите совершенно другого, – чтобы, склонившись над столом, я морщился и царапал пером, вдыхая отравленные логикой пары, чтобы в конце страницы при взгляде на сделанное меня вырвало прямо на бумагу – вы этого хотите?
Так говорил он. И что же теперь? Где все обещанное многообразие? Откуда это стремление к простоте слога и чувств, так отвергаемой ранее? В ответ – никаких объяснений, кроме первой строки: «Ах, как я был счастлив в этом мире, пока он не распался, как истлевшая ткань, пока все не покрылось снегом... Но уже смеркается, и скоро совсем стемнеет – начнем не медля».
Последуем же за автором в комнату, к столу, к лампе, – здесь мы сможем рассмотреть его. Он похож на персонажа старинной фотографии. Представляется, что сюртук его заношен, но, как положено в таких случаях, аккуратно заштопан, и эполеты блестят в электрическом свете, а нафабренные усы и Георгий на груди говорят о его былой мужественности. И что ему до прошлых иллюзий, если он захвачен и охвачен? Пальцы по-птичьи цепко держат стило, царапая им по бумаге стремительно, а местами и вовсе небрежно. Собственные небрежность и стремительность потрясают его, но как-то мимоходом, как-то сбоку, не прерывая стремнины слов. Наверное, это и есть – вдохновение...
Заглянем через эполет, чтобы узнать – где он сейчас?
Им посвящается
Действующие лица: некий майор, некий борттехник, и она. Место действия: окрестности древнего Сабзавара. Любые совпадения главных героев с вероятными прототипами случайны.
1
...Предупреждая раздражение, сразу сообщаю – это очень длинная история. И еще: заголовок, проставленный сверху, несмотря на его истинность, все же – маскировка. Настоящее название лежит на самом дне этого длинного текста. Потому что понятным оно станет только после прочтения, и уже не сможет внести смятение в умы целомудренных читателей.
«У вас есть что-нибудь объемное? – спросил один петербургский издатель. – Роман нужен, что мне делать с вашими рассказами?» – «Господи, да конечно есть!» – уверенно солгал автор. Вечером он сел в поезд «Петербург – Уфа» и за ночь, лежа на боковой возле туалета, спускаясь временами, чтобы прикрыть ноги юной незнакомке, спящей на нижней полке купе (иначе вдохновение как-то мучительно твердеет), и выходя в тамбур перекурить – вот за эту полную перестуков, ветра, летящих влажных огней, этих тонких коленок и сбившейся простыни со штампом – за одну из прекраснейших ночей в жизни он написал весь роман. Закорючками на пяти листочках. Будь в его распоряжении полярная ночь, он вышел бы на ночной перрон с пачкой исписанных убористым почерком листов. Но широты не те, слишком низкие широты...
Прошел год, издатель устал ждать и забыл об авторе. Автор же все тянул, не решался, все точил и грыз перья до их полного исчезновения. Он решил взбодрить свою память и написал «Бортжурнал» – для разминки. Но «Бортжурнал» вырос кустом сухих историй, а весь живой сок, который жадина приберегал на роман, остался нерастраченным... Теперь автору терять нечего. Черт с ним, с издателем, бог с ним, с романом. Он открывает заветную бутылочку и выливает ее содержимое – самую главную историю – под кустик историй о борттехнике. И если в результате распустится цветок, то это и будет настоящее заглавие – три главных слова в самом конце.
Ноябрь уж на дворе, а снега все нет. Только туман. Какое совпадение, – удивляется автор, – в то же самое время они и отправлялись. В Приамурье все еще не было снега, еще бегали по уже льдистым, хрустящим стоянкам борттехники в лоснящихся демисезонках, воруя друг у друга клювастые масленки и мятые ведра, – шел перевод бортов на зимние масла. «Быстро, быстро! – дыша духами и туманами, кричал мелькающий тут и там инженер, – белые мухи на носу, а вы все телитесь, вашу мать!» А над всем этим крякали и курлыкали улетающие на юг последние птицы...
На этом месте обрыв пленки – и мы, как утки, внезапно снявшись с холодающей родины, с ее подмерзающих озер, с ее хромоногих стремянок, отправляемся в жаркие страны – как положено, качнув крыльями над родным аэродромом.
А это уже аэродром в Возжаевке. Целый день ожидания в битком набитом эскадрильском домике – а в тюрьме сейчас макароны дают! – и голова трещит от сизого табачного воздуха, но! – под вечер, белой штриховкой по синим сумеркам, шурша по крыше – снег! И перед глазами высыпавших на внезапно белую улицу, сквозь колышущуюся снежную тюль, в свете прожектора выплывает громадный, как китовый плавник, киль «горбатого»...