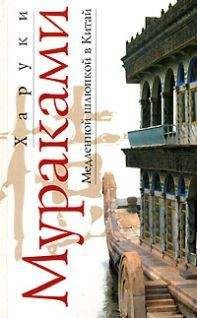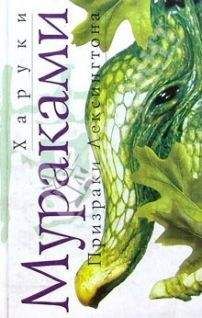Харуки Мураками - Хроники Заводной Птицы
Женщина снова вопросительно посмотрела на меня. Неужели о моей двенадцатиперстной кишке думает?
— Так вот. Я хочу, чтобы все выглядели как следует, хотя мне и приходится за это платить. Только и всего. Пусть тебя это не волнует. Это мое дело. Просто я физически не переношу вида грязной одежды.
— Так же как музыкант с идеальным слухом не выносит фальшивой игры?
— Вроде того.
— Неужели вы покупаете одежду всем, кто вокруг вертится?
— Да. Впрочем, таких людей не так много. А весь мир не оденешь, даже если не нравится, как он одет.
— Все имеет свои пределы, — проговорил я.
— Вот-вот, — согласилась она.
Наконец принесли салат, и мы принялись за еду. Дрессинга в салате действительно оказалось всего несколько капель.
— Еще вопросы есть? — спросила женщина.
— Еще хотелось бы знать, как вас зовут. Чтобы называть как-то.
Какое-то время она молча пережевывала редиску. Между бровей появилась глубокая складка, будто по ошибке она взяла в рот что-то ужасно горькое.
— Зачем тебе мое имя? Ты же писем мне писать не собираешься. Все эти имена — пустяки, не имеют значения.
— Но если надо будет позвать, когда вы ко мне спиной? Как же без имени?
Она положила вилку на тарелку и приложила салфетку к губам.
— Понятно. Я об этом совсем не думала. Ты прав: могут быть такие ситуации.
Она задумалась, а я, ничего не говоря, занялся салатом.
— Значит, нужно какое-нибудь имя, чтобы можно было меня сзади окликнуть?
— Ну, в общем, да.
— И не обязательно настоящее?
Я кивнул.
— Имя, имя… что бы придумать?
— Что-нибудь простое, легкое. Желательно конкретное, настоящее, такое, что можно руками потрогать, видеть глазами. Так легче запомнить.
— Что, например?
— Ну, я своего кота зову Макрель. Вернее, только вчера его так назвал.
— Макрель, — повторила она вслух, словно желая удостовериться, как звучит это слово. Взгляд ее остановился на подставке для соли и перца, пока, наконец, она не подняла голову и не проговорила:
— Мускатный Орех.
— Мускатный Орех?
— Вот, пришло вдруг в голову… Можешь так меня звать. Нет возражений?
— Нет, конечно. А как называть вашего сына?
— Корица.
— «Петрушка, шалфей, розмарин и тимьян»[54], — протянул я нараспев.
— Мускатный Орех Акасака и Корица Акасака… По-моему, неплохо?
Мускатный Орех Акасака и Корица Акасака… Мэй Касахара была бы в шоке, узнай она о том, с какими типами я познакомился. «Ну, ты даешь, Заводная Птица! Неужели никого понормальнее найти не мог? Почему?» — «Не знаю, Мэй. Понятия не имею, почему».
— Знаете, год назад я познакомился с двумя девушками — Мальтой и Критой, по фамилии Кано, — сказал я. — И после этого со мной начались разные чудеса. Впрочем, сейчас их уже нет.
Мои слова на Мускатный Орех впечатления не произвели, она лишь едва заметно кивнула.
— Пропали куда-то, — добавил я тихо. — Исчезли, как роса летним утром.
Растаяли, как звезды на рассвете.
Женщина наколола на вилку листок какой-то зелени, по виду напоминавшей цикорий, и отправила его в рот. Затем, будто вспомнив вдруг о давно данном обещании, взяла стакан и сделала глоток воды.
— Тебе, верно, хочется услышать о деньгах? Тех, что ты получил позавчера. Так ведь?
— Еще как хочется, — отозвался я.
— Могу рассказать, но может статься, это будет долгая история.
— До десерта уложитесь?
— Вряд ли, — сказала Мускатный Орех.
9. В колодце
Спустившись по прикрепленной к стене металлической лестнице на дно колодца, в кромешный мрак, я, как всегда, шарю руками в поисках бейсбольной биты, которая стоит здесь, прислоненная к стенке. Эту самую биту я почти бессознательно унес из дома того парня с чехлом от гитары. В окружающей со всех сторон темноте прикосновение к старой исцарапанной бите странным образом успокаивает меня, помогает сосредоточиться. Поэтому я все время оставляю биту в колодце. Да и лазить с ней вверх-вниз по лестнице хлопотно.
Нащупав биту, крепко, как игрок на бейсбольной площадке, обхватываю обеими руками рукоятку, убеждаясь, что это моя бита. Потом начинаю проверять, не изменилось ли что в этой кромешной тьме, где не видно ни зги. Напрягаю слух, набираю воздух в легкие, обследую подошвами кроссовок землю под ногами, легонько постукиваю битой по стенам, проверяя на прочность. Этот ритуал уже вошел у меня в привычку и нужен, чтобы успокоиться. Дно колодца — как морское дно. Все застыло здесь в первозданном виде, как бы придавленное прессом: дни проходят, и ничего не меняется.
Высоко над головой плавает светлый кружок — кусочек осеннего неба. Глядя на него, я думаю об октябрьском вечере, о мире там, наверху, где живут своей жизнью люди. В неярком, редком свете осени они ходят по улицам, покупают что-то в магазинах, готовят еду, на электричке едут домой. И думают, что это все само собой разумеется, а может, и вовсе не задумываются. Раньше и я делал то же самое — был безымянной частицей этого неопределенного неясного сущего, называемого «людьми». Они принимают друг друга, живут в лучах этого света, и независимо от того, длится это целую вечность или всего один миг, между ними должна быть какая-то окрашенная светом близость. Но я больше не принадлежу к ним. Они — там, на поверхности, а я — тут, на дне глубокого колодца. У них есть свет, я же теряю его. Иногда кажется, что мне не найти дорогу обратно в тот мир, не суждено снова обрести покой, который дает человеку свет, я уже никогда больше не возьму на руки своего мягкого кота. От этих мыслей в груди поднимается тупая, щемящая боль.
Я ковыряю рыхлую землю ногой, и возникающие там, наверху, картины отодвигаются от меня все дальше. Чувство реальности слабеет, его вытесняет ощущение, что между мной и колодцем — тесная связь. Здесь, на дне, тепло и спокойно: тронешь мягкий земляной покров — и коже приятно. Боль в груди тает, как круги на воде. Это место принимает меня так же, как я принимаю его. Еще крепче сжимаю в руках биту. Зажмуриваюсь, потом открываю глаза и поднимаю их кверху.
Потянув за веревку, закрываю крышку колодца (для этого приспособлено устройство со шкивом — сообразительный Корица придумал), и темнота становится непроницаемой. Колодец закрыт наглухо — не проникает ни единого проблеска света. Не слышно и ветра, порывы которого временами долетали сюда. Теперь я полностью оторван от «людей». У меня нет с собой даже фонаря. Это как принятие веры: я хочу показать им, что принимаю темноту полностью, такой, какова она есть.