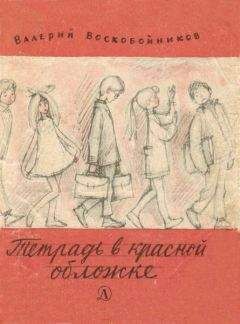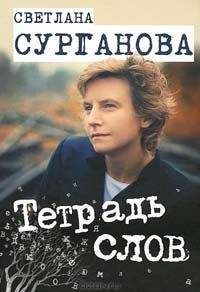Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
24 января
Я снова вынуждена писать ночью, днем у меня нет ни секунды спокойствия; впрочем, я замечаю, что никто не изумляется и не протестует, если я не ложусь вечером и говорю, что у меня остались какие-то дела по дому. То, что лишь в этот час мне удается остаться одной и писать, приводит меня к пониманию, что сейчас я впервые за двадцать три года брака посвящаю немного времени самой себе. Я пишу на крошечном столике в ванной комнате, как в юности тайком от матери делала кое-какие записки, которые домработница, немного посопротивлявшись, соглашалась отнести одному моему однокласснику. Помню, что она всегда недоверчиво рассматривала конверт, и мне самой было неприятно видеть в ее непочтительных руках то любовное послание. Это такое же ощущение, которое я испытываю теперь при мысли, что кто-то может прикоснуться к моей тетради.
Я переживаю сильную подавленность и уныние, может, это реакция на прошлые дни. В воскресенье хочу пойти исповедаться, я давно уже не ходила. Сегодня я попросила отгул, потому что хотела сходить в центр купить кое-что для Миреллы. Нерешительно стоя перед витринами, я спрашивала себя, что ей понравится больше: витрины были набиты желанными вещами, и мне казалось, что тех, которые я могла бы купить, недостаточно, чтобы удовлетворить ее маниакальное желание хорошо одеваться, выглядеть богатой и счастливой. Сумма, которой я располагала, оставляла мне чрезвычайно ограниченный выбор, исключавший все, что выглядело наиболее привлекательно, в то время как двумя днями раньше с этой нежданной суммой денег на руках я поверила было, что могу даже изменить жизнь и намерения Миреллы, могу дать ей не просто что-то, а все. На поверку мне приходилось признать, что я смогу купить ей только красное пальто, шотландскую юбочку и флакончик духов. Кроме того, признаю, что, отвергая мудрое намерение приобрести вещи, которые пригодились бы Мирелле, я заглядывалась на витрины, в которых выставлялись сумочки; я чувствовала в себе запал посоперничать с сумкой из свиньи, которую по-прежнему как будто бы не замечаю, подарок этого Кантони; она каждый день коротко говорит с ним по телефону, отвечая односложно. По сравнению с кое-какими сумками на витринах та, что он ей подарил, показалась мне исключительно скромной; я злорадно отмечала это, чуть ли не с наслаждением обвиняя его, что он не так уж и богат, как Мирелле кажется, или, того хуже, скуп. Я хотела бы подарить ей сумочку гораздо красивее, чтобы та, другая, разонравилась. Подолгу стояла перед одной из витрин, пытаясь угадать, сколько стоит сумка из красного крокодила; чувствовала себя женщиной, приехавшей из деревни, оглушенной и не сведущей в городской жизни. Наконец я решилась войти в магазин и вскоре вышла, без тени стеснения сказав: «Спасибо, я еще зайду».
Я никогда не смогу купить одну из тех сумок. Подарок Кантони стоит гораздо дороже, чем я воображала. Я сделала несколько шагов, погрузившись в свои мысли; люди толкали меня, я говорила: «Извините». У меня были деньги в кошельке, но из-за этих самых денег я чувствовала себя невероятно слабой; ведь они вынудили меня измерить нашу бедность на практике. По своей слабости я, как мне показалось, могу догадаться о том, как ее ощущает Мирелла и как бессильна она себя защитить. Я понимала, что очень трудно сделать что-то, чтобы спасти ее, и быть может, даже она сама не способна это сделать. Кроме того, я цинично спрашивала себя, правда ли спасу – или же прегражу ей путь к лучшей, чем моя, жизни: может, я просто хочу навязать ей свой пример как наказание. А может, говорила я себе, вздрагивая, мне и правда завидно. Потом, внезапно призвав себя вернуться к здравому смыслу, решила бежать домой и объяснить ей, что никто не может покупать вещи по такой цене, это какая-то аморальность, безумие, сумка не может стоить столько, сколько мужчина зарабатывает своим трудом за целый месяц, никто не решится носить такую, так не должно быть. Но мне казалось, что я слышу, как Мирелла смеется в ответ: магазины были полны людей, которые не только смотрели, как я, а выбирали и с легкостью покупали. Тогда я подумала, что было бы здорово взбунтоваться на время и поддаться всем соблазнам, всем безумствам, сказать: «Хватит, да хватит же», заходить в магазины, покупать все сумки, и чтобы все мужчины смотрели на меня, как тот, которого я встретила вчера в парадной нашей конторы. Сквозь одну из витрин я увидела продавца, который раскладывал драгоценные камни на покрытой коричневым бархатом полке. Я спрашивала себя, сколько стоят эти камни – цифры, которые я и вообразить не могла, но чувствовала, что каждый стоит годы моего труда, труда Микеле. Мне казалось, что всю мою жизнь можно заключить в одном из этих камней, и любой, у кого есть деньги, может купить ее, купить меня, купить Миреллу. Я почувствовала слабость, боялась упасть в обморок. Мужчина по ту сторону витрины смотрел на меня, не отводя глаз: мне внезапно показалось, что, возможно, он и есть адвокат Сандро Кантони. Это был высокий блондин со светлыми волосами и тонкими губами. «Женитесь на ней, по крайней мере, – пробормотала я, – сделайте одолжение, женитесь на ней». Он смотрел на меня с изумлением: может, думал, что я сумасшедшая, разговариваю сама с собой. Я и вправду оторопела: мне редко случается ходить по центральным улицам, где столько фонарей, людей, звуков, – в них нет сердечного добродушия улиц нашего района. Дойдя до площади Испании, я сказала себе: «Сейчас куплю немного цветов»; но лотки были настолько переполнены, изобильны, пышны, что мне показалось, будто и оттуда я ничего не смогу унести. Мимо то и дело проезжали автомобили, Риккардо сказал, что у Кантони «Альфа Ромео». Тогда я сделала то, чего очень давно не делала. Я села в такси и сказала отвезти меня домой, оставила щедрые чаевые, быть может чересчур. «Оставьте себе, – сказала я водителю, – оставьте себе». Как же мне было приятно вышвырнуть на ветер пятьсот лир.
25 января
Несколько дней назад я объявила Мирелле, что намерена как-то отметить ее двадцатилетие; предложила ей пригласить своих друзей на чай. Она поблагодарила, но без воодушевления. Я добавила, что они и потанцевать смогут: я уберу стол из обеденного зала, и дверь заодно сниму, чтобы зал и прихожая стали единым пространством. Один из друзей Риккардо пообещал принести несколько новых американских дисков. Она сказала, что разошлет приглашения.
Сегодня же она заявила мне, что предпочитает обойтись без этого: большинство ее друзей в тот вечер заняты. Кроме того, добавила она с усилием, ее уже некоторое время назад пригласили на ужин в тот же самый вечер. «Мне жаль», – сказала она. Я тоже сказала: «Мне жаль». Потом, неохотно произнося это имя, я спросила, не Сандро ли Кантони ее пригласил. Она ответила, что да, он и другие люди, но я поняла, что это неправда – или, даже если и правда, не они для нее важны. Я спросила, почему бы ей не пригласить этих друзей домой. Она сказала, что это невозможно, что это люди, привыкшие принимать гостей иначе и, в общем, ведущие не такой образ жизни, как наш, такой, который мне незнаком. Я иронично возразила, что до сей поры прекрасно знала, как полагается жить и принимать гостей; говорила о своей семье, о своем воспитании, уточнив, что ей или ее друзьям нечему меня научить. Мирелла извинилась, сказала, что не хотела меня обидеть, но, в общем, у нас много лет не было гостей и все изменилось, никто уже не пьет чай, пьют коктейли, она презирает маленькие семейные праздники. Увидев, как я огорчилась, она добавила, что, если для меня это так важно, она никуда не пойдет, останется дома с нами, но только с нами; а поужинать сходит следующим вечером. Может, мне стоило согласиться – хотя бы показать ей, что она не вольна делать прямо-таки все, что заблагорассудится; вместо этого какая-то своего рода гордыня подтолкнула меня ответить: «Спасибо, нет нужды идти на такие жертвы». Я думала, как сказать Микеле, которого я уже предупредила об этом маленьком приеме, боялась, что найти отговорку будет очень непросто, хотя на самом деле знала, что любой предлог сгодится: Микеле обрадуется, что никаких гостей не будет – что можно провести воскресенье так, как нравится ему, у радиоприемника, спокойно, – что примет любое объяснение. Тем временем я наблюдала за Миреллой: она склонилась над столом, покрывая ногти красным лаком. У нее длинная, изящная, очень красивая рука: она положила ее на толстую книгу о политэкономике. Мирелла, как и ее брат, учится на юридическом. Это неправда, что она беспокоится из-за экзаменов, я сказала об этом Микеле, чтобы оправдать ее настроение и мою тревогу: она немного времени тратит на учебу, но занимается с твердым и ощутимым желанием, ее оценки всегда выше, чем у Риккардо, хотя мне кажется, что из них двоих умнее – он. Вчера она сказала, что сдаст все экзамены в июне. Боюсь, что за этим ее решением что-то скрывается; я хотела обсудить это с ней, но вместо этого, сама почти не заметив, спросила: «У него серьезные намерения?» Она спросила: «У кого?» Я пожалела, что затеяла этот разговор, но ответила: «Кантони». Я увидела, как она краснеет, силясь сохранить спокойствие: она сказала, что напрасно говорила со мной об этом и сделала это лишь потому, что ей не нравится врать, и потому, что считает меня умной, понимающей женщиной. Потом, продолжая краснеть, добавила, что пока отнюдь не намерена выходить замуж, что хочет осмотреться, насладиться жизнью и что, вообще-то, именно это я ей и посоветовала, призывая продолжать учебу, поступать в университет, чтобы однажды найти работу и стать независимой: «Ты всегда говорила, что так мне не придется выходить за первого встречного только затем, чтобы он меня обеспечивал. Не ты ли сама мне это сказала?» Пришлось признать ее правоту.