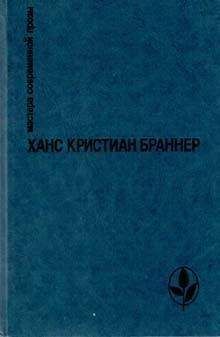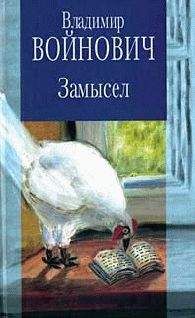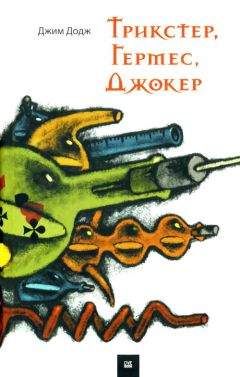Джим Додж - Дождь на реке. Избранные стихотворения и миниатюры
Самое время
Перевод Шаши Мартыновой
1О, жемчужина в лотосе, ах-х-х.
Сейчас.
Радость в сердце мгновенья.
Сейчас.
Пыл мгновения.
Сей миг.
Цветение мига.
Время — сфера,
а мгновение сейчас —
недвижимый центр,
и все течет сквозь него,
плот, странствующий с рекой,
беспечная поездка ангелов Дао.
Всегда сейчас.
До того как родился,
после того как умрешь:
сейчас.
Время течет сквозь ангелов,
как реки по каньонам.
Конечно, ангелы могут быть лишь
пространством между рекой
и кромкой каньона,
пустотой, что остается
после того, как вода размоет
то, что было,
начисто.
Мой брат Боб
был не ангел.
Боб умер,
но я его помню,
как реку в каньоне,
и, быть может, из-за постоянной боли
в изуродованной ноге, с которой жил,
он, когда мог, искал прибежища
в цветении мига.
Я помню ночь,
когда он, прикончив седьмой косяк убойной,
кивнул и провозгласил:
«К черту прошлое.
Оно уже случилось».
Реки не текут вспять.
Может, помнишь реку
там, где ее перешел,
или присел перекусить
у водопадов в конце весны,
но теперь вспоминаешь ее
в цветенье мига,
и если у меня слезы на щеках,
то оттого, что Боба здесь больше нет,
чтоб вспомнить вместе —
вспышку зимородка,
кайму сливок и пепла
ольховника, что трепетал на речном ветру, —
время не останавливается —
река скользит по каньону,
через заводи и водопады;
Боб был прав,
прошлое делось,
сгинуло, минуло,
но я не уверен,
и в горле застряли слезы,
машу я
на прощанье
с берега —
или из лодки.
Есть такая история,
возможно — апокриф,
про то, как учитель Дао, Лао-цзы,
уходил в глухомань,
и какой-то стражник на границе
узнал его и взмолился:
«О Учитель, подари нам истину
о таинстве времени», —
и Лао-цзы, верхом на осле,
обернулся и рассмеялся через плечо:
«Поздно останавливаться».
В другой версии этой истории
Лао-цзы разворачивает ослика
и возвращается к стражнику,
протягивает руку, касается его плеча,
смотрит в глаза и говорит:
«Одно могу сказать наверняка:
Будущее никогда не опаздывает,
и ты пошевеливайся».
Продолжительность мига
лучше всего измеряется,
как некогда требовали
длина и глубина времени:
«Встречаемся во Французском квартале в полночь».
(Хотя сам я предпочел бы:
«Иди же тотчас».)
Возможно, не все сейчасы
одинаковой протяженности
(гидравлическая точка зрения),
или все-таки равны
(механистический подход),
или они
воспринимаются по-разному
разными людьми
(эмпирический взгляд).
Великий спор об этом —
о природе времени — кипит,
и кое-кто из ребят уже начал
некрасиво обзываться:
«мудак расплывчатый», «тупица», «ангел».
Ну что вы, в самом деле.
«Время, —
писал Рексрот, —
милость вечности».
Что ни на минуту не означает,
что можно ждать
милостей от времени.
Грегори Пек
подстрелен в спину навек.
Рябые сливки и пепел
ольховой коры.
Твоя рука в моей,
мы смотрим на большой экран
и плачем:
О безымянная печаль
и злобство
мира —
временами
их как-то до черта.
Незнакомец в нашем ряду,
что прибыл на бордовом
«форде» 56 года,
кричит: «Не огорчайтесь.
Лучше всего в жизни то,
что можно до самой смерти
решать, стоила ли она того.
Уйма времени».
Человек позади нас
цедит сквозь зубы:
«Блин,
подстрелили
Грегори Пека
Навек.
О чем вообще
речь?»
А на экране
бандито, что подстрелил
Грегори Пека, пинает его в ребра,
сильно,
чтоб уж точно
добить,
а потом сдвигает сомбреро на затылок
и спускает курок ворованного «кольта».
И говорит трупу Грегори Пека,
лежащему в кровавой пыли:
«Самое время,
амиго».
Уже мгновения назад.
И вот он —
долгий, медленный,
безутешный плач.
А когда уняли слезы,
мы вышли из кино — про само время —
все еще держась за руки,
в ранний зимний вечер
под низкое, истертого никеля небо.
Осколки
Перевод Шаши Мартыновой
Вырви иззубренный кусок обсидиана из ложбины
между моих
легких и размозжи. Сокруши.
Размолоти в бриллиантовую пыль
и швырни ее обратно в алмазную новую звезду,
скорми горнилу корней,
миллионолетнему цветку,
идеальному в мозгу акулы,
крошечному пурпурному маку, выжженному у основы
ее хребта,
а потом спустись к реке, распахни объятья,
чтоб мог я коснуться тебя сквозь решетку дождя,
ощутить ослепляющую чистоту кожи,
ощутить все, что можем мы вместе вообразить,
ощутить, покуда не поймем наконец,
что когда умираем, душа
покидает тело через кончики пальцев.
Валет Червей затаривается в «Мортмарте»
Перевод Максима Немцова
Технотечная музыка в автомате, чувак, —
не проссу чё за изык тут,
да и стучат невпротык.
Запутался в разъедающей шворке наркоза,
теплюсь свечкой в оксикодоновом свете,
глотаешь их горстями, у ванны —
болеутоляющие пилюли, чтоб сносно онеметь,
ибо последние десять лет бежал
по тоннелям меж снов,
мозг пылает сухим варом,
колотил во все закрытые каменные двери
жестяной своей кружкой
так долго, что теперь
и не упомнишь, для чего эти сны
или когда надежда мигнула и опустела.
Что падает — упало, не подымется.
Страх темноты.
Хлыста, сети, ракет;
робот выдаивает у тебя из чресл
последнюю сладкую капельку.
Символ хери
Перевод Максима Немцова
Свет — информация без сообщения.
Маршалл МаклюэнМы заправились и погнали наконец так быстро,
что впрыскивали бензин прямо в модемы,
вгоняли электрический динозаврий сок с размаху
в мозжечок
сквозь дырку в черепе, наскоряк побитую
лазером, чтоб розетка
ввинчивалась в самую кость, —
так внутреннее сгорание не разнесет
нам кипящую мозговую жижу
по всей карте пепла,
на которой мелкий шрифт (который никто
никогда не читает)
гласил: Стойте!
Поздно.
Уже никак.
Миля за милей
мимо летят опустошенные поля.
Теперь мы знаем так много,
что знание опрокинуло познание,
и открытия налетают так быстро, что не осмыслишь.
Слишком много точек в логической модели,
где как бы в точку — это делать из точек Бога,
а из их соединения —
порождающую силу
для новых точек, которые вдруг захочешь создать —
может, торговать, как дикими лошадьми,
что спариваются под дождем на границе лесов.
Выдуто, распродано, сношено —
будто электромагнитное поле вдруг смигнуло, щелкнуло
или схлопнулось через жопу
хлобысть в бродяжий спад, плюх,
и наобум относительное давление падает — ух,
тут и смещающийся центр хаоса —
для нас не столько квантовый шлеп,
сколько понтовый скок, что не вполне достиг
даже края Рая,
почти реконструированного
из первоначальных кусков,
несмотря на то, что инструкцию выбросили вместе
с коробкой.
Нас бросили там, где мы оказались:
перегоревшие в лабиринте крысы, уже не выбраться
из углеродных клеток,
крутятся в гиперпространственных доменах,
как биоботные белковые цепочки,
пристегнутые к тем же точкам, что мы наделали,
и к любой обнаруженной точке.
Однако ж мы поразительно невдалеке
от божества, можно докричаться,
несмотря на бесхребетный цинизм
и калечащую иронию нашего века.
Ему исполнился полтинник в полумесяц начала марта,
и после десятка лет без снов
— пустого, недостижимого или просто ничем не памятного —
он увидел сон в ту ночь рожденья — о карманном
чудище Чаризарде.
Зарядившись пламенем, Зард в своем пироманьем раже
набрал столько очков, серьезно поражая мишень
многонационального капитализма,
что несколько свежих слияний вообще-то разлились.
Стало быть, для него сон был хорош, добр
бесстыдно и неограниченно —
накопившаяся ярость высвободилась пылающим разором,
тут, конечно, не без первобытного шарма —
но чувак, понимаешь, это ж, типа, фантазия,
залетный залет в Высокое Одиночество
и прочие пункты назначения,
увы, не реальные:
боль убиваешь пилюлями
и пытаешься поверить, что однажды вступишь
в эту мифическую веселую шайку
бандитов-троцкистов, что бродит по горам,
освобождая богатеев от нераспределенных излишков
и раздавая их беднякам.
Черт, в его возрасте надо лишь верить,
чтобы даже стремиться к безгрешности
в этом обрюзглом позорище культурного потреблятства
с его запертыми дверьми и дешевыми восторгами.
Спайсер, ты возжег лампаду:
в центре творенья
вопиет тяга к забвенью.
Да и кто поставит тебе на вид,
если ты наконец сдашься
и нафантазируешь шамана на коленях
с обсидиановым ножом,
чтоб резать глотку псалмопевцу.
Тот умоляет: «Нет. Прошу тебя. Я лютеранин».
Шаман улыбается по-доброму и рассекает
сонную артерию, поясняя
эдак по-дзэнски невнятно — научился по фильмам
о боевых искусствах:
«Ага, а я — сумчатое».
Врубись, какие у него непостижимо четкие
деконструированные удары,
но кровь есть кровь, на что бы ни указывал стиль,
и кровь эта мешается с бензолом в горящей реке,
дым клубится вокруг плутониевых дверных ручек
и тут же ослепляет десятифунтовых крыс,
что кормятся в помойных своих яслях.
Чтоб избежать всей этой мутирующей пакости —
нафантазированной, не забыл? —
шаман, оседлав тучи с лососевыми брюшками,
отплывает прочь на закате, пока не оседает
высоко на широколистном клене в глубине глухомани.
Сто лет шаман собирает кровь через спутанные
корни дерева,
вытягивает ее из горностаев, медведей, танагр,
черепах, кротов —
из всех существ, что умирают в сладостной тени клена, —
а потом отправляет ее назад,
частицей и волной, в тело/дыханье певца,
чтобы щели в Небесах залатались к заре,
а спящим детям никогда не снилось, как близко
подступили они к смерти.
Шаман умирает при переливании
(блин, мои красные кровяные тельца в массовом смятенье),
а жизнь во всей ее неумолимой обыденности продолжается.
Существенные задачи, с которыми мы сталкиваемся, нельзя решить на том же уровне мышления, на котором мы были, когда их ставили.