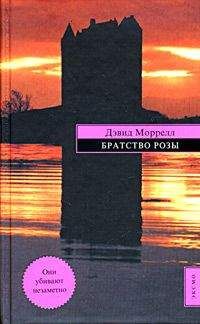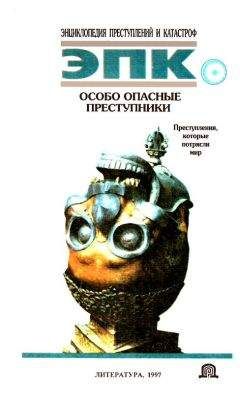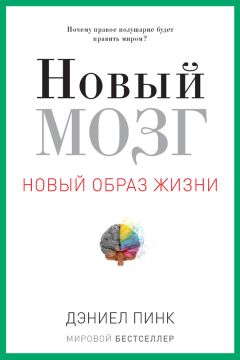Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 7 2005)
Во время следующих своих сибирско-украинских турне папа доносил до меня, что Клава Жениным супругом до крайности недовольна: он является к жене лишь по четным понедельникам, а в остальное время занимается творчеством на территории “Блюмы”, как именует ее Женя; тем не менее ему удалось произвести на свет погодков, мальчика и девочку, — равно как и мне, только в обратном порядке, — но я-то уж если был в Ленинграде, то и жил дома, такое поведение представлялось мне намного более добропорядочным. Этих, с цветами, нужно сразу гнать в шею, проницательно усмехался я, умом сочувствуя Жене, а сердцем торжествуя. Женины дети — сквозь папину неукоснительную корректность впервые проглянуло что-то вроде ужаса — сказать, что разбалованны, значит ничего не сказать, он, папа, бежал оттуда на второй же день, а чтобы заставить папу бежать, требовались средства поистине экстраординарные.
Это и впрямь был какой-то обезьянник, несмотря на покоробившие меня чрезмерным еврейским напором имена ее… чуть не сказал: детенышей. А именно — Амос (Моська, что ли?) и Эсфирь (Фира?): мы, я считал, не должны ничего выпячивать, не делать для них ровно ничего — ни в угоду, ни в пику. В обвисающих на комариных ножках розовых колготках чернявый Амос, джигитенок с горящими миндалевидными глазенками, с неправдоподобным проворством взлетал по занавеске, мчался по потолку, вспрыгивал, спрыгивал, рвал, метал, а златовласая носатенькая Эсфирь с невыразимым восторгом следила за ним своими кукольно распахнутыми блекло-голубыми глазищами (я обомлел, столкнувшись с ними на лице моей радикулитной возлюбленной), пока наконец он мимолетом не шлепнул ее по лбу, и она отчаянно заревела, продолжая, однако, внимательнейшим образом наблюдать за прыжками и кувырканиями своего восхитительного братца. “Не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку”, — внезапно отозвалось у меня в ушах его переходящее в ультразвук верещание.
Тетя Клава сидела с презрительно-отрешенным видом, но царственные ее ноздри выражали гневное: “Вот, полюбуйся!” Зато Женя на весь этот бред реагировала совершенно механически, как на погоду: били — уворачивалась, визжали — пережидала, обливали — раскрывала зонтик. Но все равно оставалась как в воду опущенной. А когда Амосик стремительной лапкой выхватил у меня из чая лимон и попытался пришлепнуть его мне на лоб вместо кокарды и я погрозил ему пальцем, стараясь, однако, показать, что шучу, Женя грустно сказала: “А вот дядя Мотя нашел с ними общий язык”.
Бежав от них быстрее лани. И я со страхом почувствовал, что начинаю испытывать к ней — невозможно выговорить — презрение.
Тетя Клава поднялась с места и демонстративно покинула кухню — где, казалось, так еще недавно мы все вместе были заодно. А Женя, воспользовавшись секундной передышкой, подтянула Мосе колготки и, с нежностью потрепав его по тощей заднице, удовлетворенно констатировала: “Попа”. Сказали бы мне на перевернутой лунной лодке, что она когда-нибудь сумеет опроститься до такой степени!
Чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя, то есть вернуться в привычную грезу, я выбрался из этой иррациональности в соседнюю комнату. Но там под безнадежным взглядом белоснежного дяди Сюни и злобным оскалом так и не сумевшего свернуться в трубку пирата на меня накинулась тетя Клава, вдовствующая королева в изгнании, окончательно порыжевшая пламенеющими протуберанцами: “Ну что? Ну не сволочь?!” Я окончательно ошалел: мальчонка, конечно, не из самых обаятельных, но все же так рубануть про ребенка, внука… Да-а, тетя Клава не зря всегда славилась прямотой…
Но оказалось, она имела в виду не самого Амоса, а его папу.
Он же запрещает их наказывать, он хочет сделать из них зверенышей! О, такого демагога и в Политбюро не сыщешь! Сам говорит, что два непоротых поколения породили декабристов, а сам их держит в таком страхе, что они его за квартал обходят! А об нее ноги вытирают! Ты скажи, у женщины должно быть достоинство или нет?!
Сложным движением бровей я постарался выразить, что вопрос не столь однозначен, чтобы на него можно было ответить односложно. В чужом — Женином! — доме я ничего не смел осуждать. Тем более, что я уже тогда понимал: человек способен быть захваченным любой дурью; единственное, чего я не терпел, — отрицания очевидностей. И в этом отношении, как я ни старался не понимать того, что вижу, Женино поведение казалось мне постыдным. Постыдным было именно то, что она не чувствует стыда.
Но назавтра в гастрономе, где разъяренные тетки когда-то забрасывали яйцами дядю Сюню, Мося, даже не дожидаясь отказа, набросился с кулачонками сначала на Женю, потом, плюхнувшись на пол, на затоптанный кафель, требуя — сей же миг! — распечатать только что купленное печенье. “Нехорошо так весты себя, — наставительно склонилась к нему серебряная армянская бабуся (благородная — такой теперь Жене не бывать…), когда он наконец набил печеньем свой остервенелый ротик. — А то мами будет стыдно”. — “Маме уже давно ничего не стыдно”, — безнадежным голосом едва слышно произнесла Женя, и мое сердце припрыгнуло от благодарности: значит, она все-таки видит, во что она превратилась! Зато Амос, прожегши черными глазенками непрошеную воспитательницу, сунул пальчики в ротик, зачерпнул разжеванного печенья и ляпнул бабусе на пальто (была осень) — вышло похоже, как будто ее забрызгали поносом.
Та обомлела, а Эсфирь, наблюдавшая за сценой с невыразимым счастьем на носатеньком ангельском личике, с неподдельной заинтересованностью спросила: “Тетя, а почему у вас борода?” Обгаженная старушка, чистеньким носовым платочком ошеломленно оттиравшая пальто от желтой жижи, подняла голову и растерянно обратилась к окружающим: “Правда, у этой девочки слишком большой нос?”
А Женя стояла поникшая и намного более состарившаяся, чем обдристанная пенсионерка. И ее стройность, красота и элегантность только сильнее высвечивали ее поруганность.
Вечером же наконец состоялось явление супруга и повелителя.
Он был украшен подернутой проседью, коротко остриженной заостренной бородой кинозлодея и напоминал сильно окарикатуренного и чем-то раз и навсегда оскорбленного актера (все-таки актера!) Михаила Козакова.
Кухонный обезьянник смолк так внезапно, словно выключили звук. А властитель произвел общий сдержанный кивок и удалился; Женя с выражением побитой, но счастливой собачонки последовала за ним; Амос и Эсфирь с серьезностью, неотличимой от испуга, тоже рассеялись как дым, и тетя Клава снова потребовала: “Скажи — ну не сука?.. У нас гость, старинный друг дома — в какое положение он ее ставит? Он же ее ни в грош не ставит! Она делала аборт — он бровью не повел, говорит, об этом женщина должна заботиться… Я помню, твоя мама делала аборт, так Мотя плакал! Этот железный мужик!”
Мне потребовалась неимоверная изощренность, чтобы уголками губ выразить грустное понимание, а бровями призвать к снисходительности. Стараясь при этом не съежиться от обнажения стольких нагот разом.
А мысли тети Клавы тем временем переместились в более приятное русло.
— Сюня мне рассказывал, что Мотя в молодости был страшным донжуаном, перед ним ни одна не могла устоять…
Папе всегда была настолько чужда самомалейшая эротическая игривость, что я позволил себе легкую скептическую гримасу.
— Нет-нет, — с озорной мечтательностью отринула тетя Клава. — Он имел всех!
(Что за глупости, смущенно пожал плечами папа, меня тогда интересовали только две вещи — наука и мировая революция.)
— А этот… — Царственный лик тети Клавы снова принял выражение гневного презрения. — Хоть бы здоровый мужик был… Помню, зайдешь к тебе в комнату, ты раскинешься — роскошная мускулатура, — какого парня моя дуреха упустила!.. Кстати, почему ты так похудел?.. Ты можешь сказать, чем он ее взял? Что он ей дал?..
Но я могу ответить на эти вопросы только сейчас: что дал, тем и взял. Чем брали все пророки от начала времен — он дал ей грезу. Которой можно было служить и чувствовать себя причастной великому и бессмертному (впрочем, это синонимы). Мы занимались только разрушением чужих, враждебных грез и не имели ничего своего. А г-н Редько ей преподнес свое . С миллионом, миллионом, миллионом алых роз. И взял за это всего лишь рассудок и достоинство. А я хотя ничего и не отнимал, зато ничего и не давал.
За ужином Миша почему-то сменил гнев на милость, но Амос и Эсфирь оставались кроткими, как два ягненочка, один чернорунный, другой златорунный, и тетя Клава по-прежнему восседала во главе стола самой настоящей Снежной Королевой. А Женя — Женя сдержанно сияла. Сияла отраженным светом своего ослепительного супруга, который напористо выпытывал у меня, каким именно образом Лейбниц додумался до дифференциального исчисления. Он задавал один пронзительный вопрос и, прежде чем я успевал на него ответить, отвечал сам либо задавал следующий. Вообще-то я и сейчас не вполне понимаю, зачем что-то спрашивать, если ответ тебя не интересует. Ослеплять проницательностью? Навязывать грезу о себе? Добиваться насилием того, что приятно получать лишь по любви? Потому-то люди с сильной волей и не бывают сильными мыслителями — они стремятся подчинять, а истина требует уступать: ведь только греза коллективная, открытая для всех, не требующая насилия над несогласными, — только она и может претендовать на звание истины.