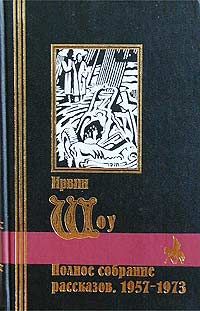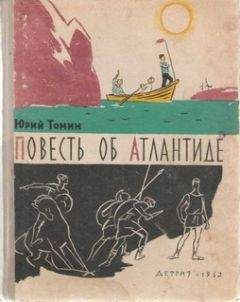Олег Красин - кукла в волнах
— Хуже, — не принял комсомолец полка моего шутливого тона, — шарики выскочили, но только не отсюда. Ты ничего не слышал о ЧП в полку на прошлой неделе?
— Нет, вы же всё скрываете, тихушничаете.
Ющенко продолжал нерешительно мяться, видимо помня о запрете начальства разглашать сведения о любых полковых инцидентах.
— Ладно, Юрик, говори, чем вы там занимаетесь, всё равно ведь узнаю! — предложил я.
— Понимаешь, — комсомольца полка словно прорвало, — кто-то бросает в самолетные двигатели шарики от подшипников. Это происходит утром, во время прогрева движков и перевода их в режим форсажа.
— То есть некто бросает в воздухозаборник шарики и их затягивает воздухом прямо к двигателям?
— Да. Дальше понятно. Шарики попадают в движок, лопатки летят к чертовой матери и всё — двигатель неисправен. Сняли и отправили в ТЭЧ уже четыре двигателя.
— Сколько? — изумился я, — ты хочешь сказать, что с самолетов сняли четыре двигателя, четыре боевых единицы встали на прикол, а вы о сих пор не наши этого раздолбая? Да надо было весь полк поднять на уши, проверить каждого, кто работал в это время с самолетами. Ну, я не знаю…засаду какую-нибудь устроить.
Ющенко виновато заморгал, будто лично был виновен в случившемся.
— Может это ваши, батальонные? — неуверенно предположил он, — а что, надоело каждое утро вставать в четыре часа на полеты, вот и решили немного выспаться, отдохнуть.
— Нашим это не нужно! — возразил я, — ранний подъем они компенсируют на полетах — потом дрыхнут по машинам целый день, не добудишься. Перед самолетами они не ходят, у самолетов не крутятся, только кислородчики, да водитель АПА. Но их всего трое, они на виду.
— Не знаю…не знаю, — нерешительно покачал головой Юрка, — сейчас должны прилететь особисты[7]. Пусть они и разбираются.
— А в чьей эскадрильи были эти самолеты?
— У Литовченко.
Я с облечением подумал, что беда обошла стороной Волчатникова. Зачем ему лишние проблемы с особистами, с командиром полка?
— Спасибо Юрец за информацию! — я похлопал дружески комсомольца полка по плечу, — да и проверь шарики у себя, не твои ли? А то потом придется отписываться.
— Да ну тебя! — улыбнулся Ющенко в ответ и пошел дальше к летной столовой.
Я присел в курилке, переваривая новость. Сейчас начнутся большие разборки, начнется дерготня, объяснения, проверки. Надо проинструктировать всех прапоров, чтобы следили за бойцами. Не дай бог это наши! Тогда всем оторвут яйца, а евнухи в армии не служат.
Поднялся легкий ветер, покачивая ветви кустарника и листья на деревьях, росших неподалеку от курилки. Я обратил внимание, что зелень на них пожухла, а на отдельных листиках уже проступила желтизна, такие же, как пятна на старых фотографиях. Наступала осень, и это было хорошо. Осенью мы свернем лагерь, вернемся домой в Азовск. Здесь уже порядком надоело.
Посмотрев на часы, я увидел, что уже скоро сядет транспортник. Надо было идти на летное поле.
У столовой на крыльце стояла Илона. Она, видимо, увидела меня в окно.
— Виктор Михайлович, можно вас на минуту? — как-то по-штатски, обратилась она.
— Да, Илоночка, слушаю тебя!
— Вы…ты..- она замялась.
— Давай уж на ты, — предложил я, — так будет удобней.
— Ты придешь сегодня ко мне, в комнату? Я буду одна… девчонки на смене, — спросила она, заглядывая в глаза.
— Приду! — ответил я и подумал, что любовь странная штука. Она может возникнуть внезапно, а может после длительных поисков. Кто знает, не поторопился ли я прошлый раз с выводами о себе и Илоне? Надо пробовать пока не получил точного и ясного ответа. Может это не любовь — вспышка, а любовь — узнавание?
Глава 6
Самолет приземлился с небольшим опозданием. Он вырулил с полосы на травяное поле, медленно развернулся, взревел последний раз своими мощными двигателями и затих, огромный, как медведица в берлоге.
Прислонившись к теплому крылу КПМки, я стал наблюдать, как транспортник начали покидать пассажиры. Они шли небольшими группами, слышался смех, не смолкали оживленные разговоры, будто все эти люди не смогли вдоволь наговориться во время полета. Среди группы летчиков мелькнуло угрюмое лицо Волчатникова, который шел, не глядя по сторонам.
Солнце уже не грело так же сильно, как в середине лета. Ветер перебирал стебли коротко стриженой травы под брюхом самолета и мне, почему-то, запомнилось это мгновение, как будто сделал моментальный снимок. Что-то щемящее, грустное, коснулось души. «О, помедли день, врачуя это сердце от разлада. Всё глазами взять хочу я из темнеющего сада», — так кажется, писал Анненский. Солнечный жизнерадостный день и разлад сердца. В этом был какой-то странный диссонанс, несовпадение ощущений.
Я увидел, как по трапу принялись спускаться два капитана, оба невысокого роста, одинаково упитанные, вытиравшие вспотевшие лбы носовыми платками и понял, что это прилетели особисты. Вышедший из самолета вместе с ними, один из наших батальонных прапорщиков, предупредил, что Гуторин выехал из Азовска на своей машине и будет на аэродроме ближе к вечеру.
Глубоко задумавшись о том, почему у меня так сумрачно на душе, я вернулся в свою комнату в бараке, но ответа не находил.
На койке лежал Приходько и читал «Комсомольскую правду». На первой странице что-то говорилось об укреплении дисциплины труда, по радио передавали вести с полей. Зашелестев газетой, Приходько поднял, было, голову, но увидев меня, продолжил чтение. Я тоже ничего не сказал, сбросил туфли и прилег на кровать. Говорить не хотелось, читать тоже, даже уважаемого мною в последнее время Анненского. Хотелось просто лежать и предаваться расслабляющей меланхолии.
Но тут в комнату вошла Лида.
— Витя… — сказала она, однако, заметив лежащего на кровати прапорщика, поправилась, — товарищ старший лейтенант, там привезли новую литературу. Не хотите посмотреть?
Приходько оторвался от чтения.
— Теперь это называется просмотром? Интересно… — прокомментировал он.
— А тебе что, завидно? — поддела его девушка.
Вова закатил глаза и пафосно произнес:
А глаза твои синие-синие
В обрамлении черных ресниц,
А у меня половое бессилие
И гангрена обоих яиц…
— Бедненький! — засмеялась Лида. Она присела к нему на кровать и погладила прапорщика по лысой голове, — тебя никто не любит. Ну, хочешь, — она шутливо посмотрела на меня и сказала Приходько, — хочешь, я тебя пожалею. Замполиту всё равно, он на мужиков переключился.
— Да брось ты! — Приходько резко приподнялся, вены на его лбу вздулись, как бывало, когда он хотел съязвить, — я его предупреждал, чтобы не ходил в барак к летчикам. Так нет, не послушался меня, чертяка этакий.
— Да, ладно! — недовольно буркнул я, — нашли мужефила.
— Кто здесь говорит о педиках? — в дверях показался Терновой. — О, Лида, привет! — заметил он девушку, — с чего вы ими заинтересовались?
— Да вот, — Вова кивнул на меня, — подумали с Лидией, что замполит перекинулся в тот лагерь.
Терновой прошелся по комнате и сказал, ни к кому не обращаясь:
— У нас в училище, в туалете, кто-то написал на стенке такой стишок:
Я гляжу в унитаз хохоча,
Я гляжу и любуюсь собой,
У меня голубая моча —
И вообще я весь голубой.
— Вы что сговорились — удивился я, — или сегодня вечер туалетной поэзии?
— Нет, дорогой товарищ, — ответил Приходько и покосился на книжку стихов Анненского, — ты первый удалился в поэзию. А что мы хуже что ли? Правда, Серёга? Мы тоже что-нибудь можем сообразить.
— Конечно, — согласился я с ним, — сообразить ты можешь, если только на троих.
Терновой сел на свою кровать и принялся неторопливо расстегивать куртку.
— В тебе, Вова, — сказал он — погиб великий актер, как в древнеримском императоре Нероне.
— А что, — немедленно отреагировал прапорщик, — сразу после школы я ездил в Москву. Хотел поступить в театральное училище.
— Ты? — удивился я.
— Думаешь не смог бы?
— А что же тогда не поступил?
— Да, — Владимир показал рукой на Лиду — понимаешь, их брат помешал. Я был чистым, непрочным юношей, а тут девчонки уже опытные…Короче, родительские деньги я прогулял и вернулся назад в Азовск. Правда, показал комиссии два этюда. Мне рассказали, что председателю понравилось.
— Вот я и говорю, что ты у нас бедненький, — вновь заулыбалась Лидка, — пойду к себе, раз никто не хочет помочь мне разобрать литературу.
— Лида, жди меня, и я приду! — игриво произнес Приходько. Потом, дождавшись, когда она вышла, повернулся ко мне. — Ну чего ты сачкуешь, замполит? С женщинами надо работать, и притом активно, а не валяться на кровати как бревно.