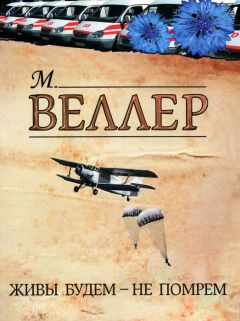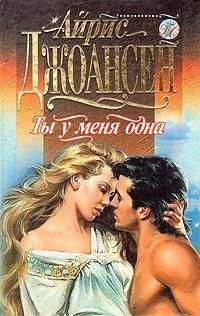Михаил Веллер - Живы будем – не помрем
Катился июнь. Звягину позванивал Боря — информировал: Саша чувствовал себя неплохо, а временами — отлично. В срочном темпе сдавал в ДОСААФе на водительские права. Занимался спортом. Летал на патрулирование. Мечтал о путешествии на машине. Нормально ел. Прибавил полтора кило. По субботам Боря таскал его на танцы.
Дом культуры гремел музыкой. В зале пульсировали и вращались цветные лучи фонарей. Мелькали лица, руки, джинсы и кружева. Густая масса фигур самозабвенно отдавалась ритму. Саксофонист лопался от собственной виртуозности. Вечерняя свежесть сочилась в окна.
Объявили белый танец. Невысокая темноволосая девушка пригласила Сашу.
Она танцевала старательно. Скованно улыбалась. Иногда поглядывала на него необъяснимо пристально.
— Не узнали? — спросила она, когда стихла мелодия.
— Извините… Кажется, нет. — Он пытался припомнить, где видел эти светло-карие глаза, чуть выдвинутую нижнюю губу…
— А ведь два года вместе работали, — печально и вызывающе сказала она. — Меня зовут Олей, Саша…
Стоящий в толпе у стены Боря мог наблюдать, как беспорядочная мимика его друга отразила гамму чувств от непонимания до ошеломления.
— Я теперь живу здесь, — отвечала Оля. — А ты как очутился?
— Летаю, — веско бросил Саша и устыдился бахвальства.
— На чем?! — изумилась в свою очередь она.
Малиновая планка заката тускнела под синим облаком.
Теплый ветер нес тонкую горечь ночных цветов, белеющих в скверах. Невидимая в листве птица вызванивала трели.
Они гуляли по спящему городу. Они знакомились заново. Все стало иным, чем раньше, и сами они друг для друга стали иными, и другим стало то, что между ними было, да ничего и не было, это для нее было, а для него ничего не было, — но теперь что-то возникло: Оля была из той, прошлой, жизни, с другого берега, и теперь она словно переправилась вслед за ним на этот берег, и от этого возникала какая-то близость, подобная чувству сообщничества.
Она здесь случайно, поведала Оля, надоело все, захотелось куда-нибудь уехать; он знал, что это неправда, но оттого, что она ничего не говорила об истинных причинах переезда (как он их понимал), он был ей признателен — за то, что она ни к чему не обязывала его своей жертвой, он ей ничего не был должен, душу его ничто не тяготило — не тяготила моральная ответственность за тот труд жизни, который она совершила ради него. Ему было легко и просто с ней — еще и потому, что в глубине души он отлично понимал, что она переехала из-за него, и это рождало в нем гордость и сознание своей значительности, это были приятные чувства, и он ощущал к ней приятную, ни к чему не обязывающую признательность.
Он не любил ее, а потому не боялся сделать ей больно, не тревожился о боли ее души, и даже наоборот — втайне мужское самоутверждение искушало его причинить ей боль и этим подтвердить свою значительность, свою власть над ней, выглядеть сильным мужчиной, суровым и лишенным сантиментов.
И как бы само собой случилось, что он рассказал ей все. Теплая звездная ночь, молодость, одиночество и груз переживаний побуждают человека выговориться, открыться кому-то… Выговориться, чуть приукрашивая события в свою пользу, стремясь показаться в выгодном свете, — чтобы поняли и оценили. В исповеди нет лжи — есть лишь желание отразиться в глазах другого чуть лучшим, чем ты есть. Потому что ты действительно хочешь быть лучше. И, читая в другом свое отражение, слушая собственные слова, которым внемлет и верит собеседник, начинаешь верить себе и сам. И обретаешь внутренний покой, обретая в друге опору своим мыслям.
Поэтому так часто изливают душу случайным попутчикам в поездах. И есть в таких разговорах моменты, когда незнакомый человек вдруг — словно проблесками — делается очень близким, родственным: моменты истинной духовной близости.
Но если это не поезд, если потом вам не обязательно расставаться, возникшее чувство порой ложится в основу отношений надежных и долгих.
Мужественно похмыкивая, Саша вел повесть о последних месяцах, давая понять, как круто прихватила его судьба и каким настоящим мужчиной он держался в борьбе в самых безнадежных ситуациях. Нет, он не хвастал — он даже посмеивался над собой, роняя скупо, что ничего особенного тут нет, раз-другой он крепко струсил; но получалось как-то, что он все преодолевал сам, рассчитывал только на собственные силы, и это нормально, вообще мужчина лишь так и может поступать, — хотя случалось и везение.
И она замирала, когда он горел в лесу, или вяз в болоте, или прыгал из ревущего самолета, — и незаметно между ними возникали и прочились те незримые нити, которые связывают человека с тем, кто, жалея и веря, жадно приемлет лучшее в нем.
Ночной воздух повлажнел от росы, стало прохладно и не уютно, а Олино жилье оказалось рядом, за углом, и там был растворимый кофе, и печенье, и сгущенка, только тихонько, чтобы соседей не разбудить, а ему завтра на аэродром не надо, можно вернуться позже и выспаться до обеда.
В комнате нашелся не только кофе, и мерцал красный глазок транзистора, тихо и щемяще пел грассирующий французский голос, и Саша не был одинок здесь — все, что он говорил и делал, что бы ни сказал или сделал впредь, было заранее прощено, понято, принято; и она не была ему неприятна, она не навязывалась, ей ничего не надо было, она ни на что не рассчитывала; происходящее ни к чему не обязывало — и поэтому было легко и рождало легкую и теплую, как ветерок, благодарность.
Он остался, а она назавтра не пошла на работу. В последний момент он подумал о другой, далекой, но случившееся словно сбылось само собой, оказалось сильнее него: и кроме влечения на него нахлынуло то удивительное дружеское чувство к ней, дружеское понимание и признательность, которые он никогда не подозревал в себе возможными по отношению к женщине; близость с женщиной, которую по-человечески воспринимал как друга, была оглушительным откровением.
Рита приехала неожиданно.
При ярком свете летнего дня Рита оказалась стара: крупная пористая кожа, морщинки на шее, в черной пряди зло серебрился седой волосок. Саша против воли подумал, что Оля моложе на шесть лет, и презирал себя за эту мысль.
Номер в гостинице достать не удалось, и Рита устроила вульгарный скандал администраторше. Саша привел ее в общежитие.
Рита принялась немедленно кокетничать с Борей, оценивая глазами его фигуру. Через пять минут звала в гости и давала адрес. Саша даже не ревновал — смотрел печально… Чувство вины уступало место отчуждению, горечи, раздражению.
Боря подмигнул и ушел.
Рита оставалась недотрогой.
— А у тебя появились опытные повадки, — сказала она, отсаживаясь на стул и закуривая. — Что, завел здесь кого-то, а?
И раньше, чем побагровевший Саша нашелся с ответом, спокойно одобрила:
— Не бойся, я не ревную. Мы современные люди. Мужчина есть мужчина. Только смотри, не влюбись в какую-нибудь свою потаскушку.
И потребовала везти ее смотреть «Волгу».
При виде машины глаза ее загорелись, она немедленно влезла внутрь, все осмотрела, покритиковала цвет обивки: «Надо будет заменить». И без умолку развивала планы их будущей жизни, счастливой и обеспеченной.
Саша недоумевал: насколько слеп он был… Жадная, расчетливая, беззастенчивая. Что же было с ней в тот далекий вечер — грусть накатила, страх одиночества, тоска по минувшей юности?.. И одета сверх моды, как попугай…
Рита заметила его взгляды, надулась, взъерошилась. Они поссорились.
Рита захотела ужинать в ресторане. В ресторане, по ее мнению, кормили мерзостью. Велела заказать французский коньяк — всякой дряни она не пьет. Когда она была знакома с одним человеком, правда, вдвое старше нее, но настоящим мужчиной, умел делать деньги, о, он такие дела проворачивал, так он признавал только «Наполеон».
Легкой дымкой таял и отлетал в прошлое образ, созданный Сашей за семь лет одиноких мечтаний. Он просто не знал ее, а теперь романтическая идеализация сменилась неприглядной и прямой истиной… Нет, он не испытывал к ней ненависти за обманутое чувство, ни даже презрения к существу скверному и пустому, — была лишь печаль по невозвратимым иллюзиям юности.
Но куда было ее поселить?.. Пробираться контрабандой в мужское общежитие Рита отказалась с возмущением: за кого он ее принимает. Саша отправился к Оле.
— Понимаешь, — мучительно выдавил он, — приехала из Ленинграда одна знакомая…
— А, — сказала Оля. — Возьми ключ. Я переночую у подруги. Ничего. Я понимаю.
Эта беззаветная кротость кольнула трогательно в сравнении с Ритиной напористостью и деловитостью.
Вечером, сидя с Ритой, он вдруг испытал неприязнь: он с некоторым удивлением ощутил, что эта комнатка и все, связанное с ней, принадлежит только им с Олей, — у них каким-то образом появилась своя жизнь, и Рита здесь нехороша — чужая.