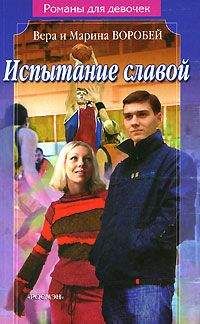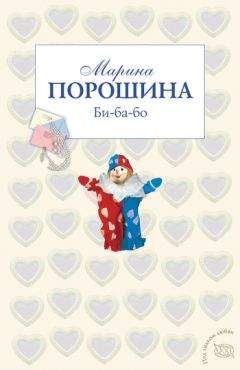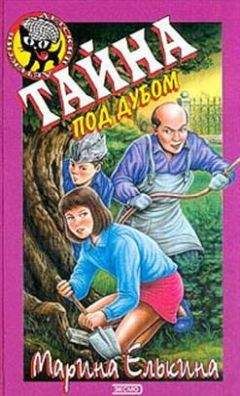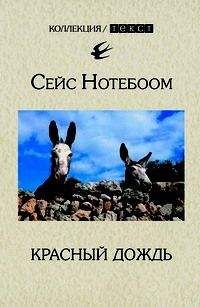Сейс Нотебоом - Следующая история
«По-моему, ты немножко с приветом, — отозвалась она. — Но рассказывать умеешь красиво. А теперь я хочу выпить».
Ладно, хоть я и показался ей странным, но мой обугленный Фаэтон произвел впечатление, мной она, яснее ясного, могла распоряжаться как хотела, а ей надо было мстить. Величие греческой драмы в том и состоит, что подобный психологический вздор там не проходит. И это я тоже хотел ей сказать, но — что же поделать — общение большей частью как раз и складывается из того, чего не говоришь. Мы — опоздавшие, потомки, у нас нет мифических жизней, одна только психология. И все мы знаем всё, каждый из нас всегда — свой собственный одноголосый хор.
«Самое скверное во всей этой истории то, что она — сплошь банальное клише». Говорила она, естественно, о Херфсте и д'Индиа, и я тогда еще колебался — права ли она. Главная беда была, безусловно, в таинственности д'Индиа. Все же остальное: юность, красота, ученик, учитель — разумеется, лишь избитое клише. Тайна крылась в той власти, которой завладел ученик.
«Ты в состоянии это понять?»
Да, это я понимал очень хорошо. Но я не мог понять другого, хотя вслух ничего и не высказал, — почему же избранником ее оказался именно он, тот самый принц Дуралей, ограниченный, серый недоумок, правда, как раз для подобных случаев еще Платон придумал свое магическое заклинание: «Любовь присутствует в любящем — не в любимом». Позже она станет частью ее жизни, эта ошибка, на которую она имела право. Мне все происходящее было лишь на руку, ведь тогда, впервые за всю свою жизнь, я оказался вблизи чего-то, похожего на любовь; Мария Зейнстра принадлежала к людям свободным и полагала это совершенно естественным, везде и во всем она шла напрямик, напролом — казалось даже, будто именно тогда я впервые столкнулся с сутью нидерландцев, с характером народа. Но ведь не станешь же такие вещи говорить вслух.
Словно замерев в движении танца, она стояла посреди четырех моих стен, между четырьмя тысячами моих книг и говорила: «Вообще-то я тоже не совсем чтобы с улицы, но это уж явно чересчур. Ты один здесь живешь?»
«С Летучей Мышью, — отвечал я. Летучая Мышь была моя кошка. — Но вряд ли она покажется тебе на глаза, очень пугливая».
Пять минут спустя Мария уже возлежала на диване, а Летучая Мышь, мурлыча, потягивалась на ней, последние лучи солнца касались ее рыжих волос, которые от этого стали совсем другими рыжими волосами. Два извивающихся тела, мурлыканье и ласковый шепот, а я стоял около, каким-то продолжением своих книжных шкафов, в ожидании, когда буду допущен. До сих пор мне приходилось иметь дело с женщинами книжными, эфирными, слегка не от мира сего, это было моей областью, — от робких до остервенившихся, — и все они прекрасно умели объяснять, каковы же мои недостатки. «Ужасно самонадеянный» или «по-моему, ты даже не замечаешь, что я пришла» — такие упреки слышались часто, сопровождаемые всевозможными «вот именно сейчас тебе просто необходимо схватиться за книгу?» и «ты хоть когда-нибудь думаешь о других?». Что ж, думать я действительно думал, просто не о них. И кроме того, мне действительно было необходимо сразу же схватиться за книгу, потому что присутствие большинства людей по прошествии определенных событий, о которых можно догадаться, не дает никакого повода к общению. Тогда же я достиг мастерства в том, что называется «отделываться», так что круг моих знакомств сузился, ограничившись в конечном счете человеческими существами женского пола, которые относились к этому точно так же, как и я. Чашка чаю, симпатия, неизбежная необходимость, переворачиваемая страница. Мурлыкающие рыжеволосые женщины, знавшие все о могильщиках и инкубационных камерах для откладывания яиц, в их число не входили, и тем более если они, нежась, извивались на диване вместе с моей кошкой в волнообразном чередовании животов, грудей, изгибов рук, смеющихся зеленых глаз, влекли меня к себе, снимали с меня очки, потом, судя по изменениям цвета в моем сумеречном поле зрения, раздевались и говорили мне все, чего я не понимал. И сам я, наверное, говорил тем вечером вещи, какие обычно говорят люди в подобных обстоятельствах, помню лишь — все это беспрестанно изменялось и, значит, было чем-то вроде счастья. Потом я чувствовал себя так, словно переплыл Ла-Манш, я получил обратно свои очки и увидел, как она уходит, махнув мне рукой. Летучая Мышь взглянула на меня с таким видом, будто сейчас заговорит, я опустошил полбутылки кальвадоса и заиграл «Ritorno d'Ulisse in patria»,[38] пока не принялись стучать соседи снизу. Воспоминание о плотском наслаждении — самое тонкое и непрочное из всех, какие есть, как только наслаждение начинает существовать лишь в мысли, оно превращается в собственную противоположность: отсутствует — а следовательно, немыслимо. Помню, в тот вечер вдруг увидел себя самого — одинокого мужчину внутри куба, окруженного невидимыми другими внутри соседних кубов, среди десятков тысяч страниц, на которых описаны те же самые, но другие чувства настоящих или выдуманных людей. Я растрогался. Никогда не написал бы ни одной из тех страниц, однако чувства этих прошедших часов отнять у меня уже невозможно. Она показала мне те края, что были для меня недоступны. Они такими и остались, но теперь я их хотя бы увидел. Увидел — неподходящее слово. Услышал. Она издала звук, который не принадлежал этому миру, его я никогда прежде не слышал. Звук младенца и в то же время звук боли, что нельзя выразить никакими словами. Там, откуда пришел тот звук, не было жизни.
Вечер в моем воспоминании, вечер в Лисабоне. В городе зажглись огни, взгляд мой обратился в птицу, парившую над улицами. Здесь, наверху, стало прохладно. Голоса детей исчезли из садов, виднелись темные тени влюбленных — вцепившиеся друг в друга статуи, медленно шевелящиеся сдвоенные человеки. Ignis mutat res,[39] пробормотал я, но ни один огонь не смог бы изменить моей материи, я уже был изменен. Вокруг меня еще плавилось, горело, где-то там возникали другие двухголовые существа, но свою вторую голову, рыжеволосую, я потерял уже так давно, моя женская половина отломилась от меня, я превратился в руину, от меня остался лишь пепел. Это мое странствие, которого я, быть может, искал, а быть может, и нет, было, вероятно, паломничеством в те прошедшие дни, а если так, то мне, подобно благочестивому пилигриму средневековья, надлежало пройти весь путь собственного, столь краткого, блаженного жития, остановиться в каждом его месте, где у прошлого было лицо. Так же, как и огни подо мною, я должен буду спуститься по городу до самой реки — до широкого, таинственного пути мрака там, внизу, на котором скользящие огоньки оставляли свои следы, письмена, светящиеся буквы на глади черной доски. Ее все время тянуло покататься на этих лодчонках, тогда, оргии расставания и возвращения. И все снова и снова перед нашими глазами то исчезал вдали город, то скрывались из виду холмы и доки другого берега, так что казалось — теперь мы навсегда отданы воде, двое беспечных шелапутов среди тружеников, два человека, принадлежавшие не реальному миру, но ударам солнечных ножей, пронизывающих волны, ветру, рвущему ее платье. Это ей пришло в голову, она позвала меня. Уезжать вдвоем нам не следовало, она поедет одна — сначала на конгресс биологов в Коимбру, после чего провела бы еще пару дней в Лисабоне, там я и должен был присоединиться к ней.
«А твой муж?»
«Баскетбольные соревнования».
Месть была мне знакома — по Эсхилу, баскетбол — нет. Чтобы быть рядом с ней, приходилось терпеть присутствие поэта в тренировочном костюме, но тот, кто однажды принял облик — личину — влюбленного, проглотит и выпьет все — блюда, полные терний, бочки уксуса. В первый вечер я повел ее в «Таварес» на Руа да Мизерикордиа. Тысяча зеркал в шкатулке, набитой золотом. И это вовсе не мазохизм, что и сегодня вечером я снова иду туда. Я иду туда сличать, проверять подлинность. Я хочу увидеть меня, и, сосчитай-ка, вот он я, отраженный в целой чащобе зеркал, что отшвыривают меня все дальше и дальше, спинами вперед, блики от люстр в стекляшках тысяч моих очков. Официанты, которых становится все больше, окружают меня, сопровождая к столику, десятки рук зажигают десятки свечей, мне вручается, наверное, дюжина меню, бокалов пятнадцать наполняются сельтерской, а когда все они наконец-то уходят, я вижу себя сидящим, многократным, многосторонним, вижу несносную мою тыльную сторону, предательский вид сбоку, мои бесчисленные руки, тянущиеся к единственному моему, к бесчисленным моим бокалам. Но ее здесь нет. Ничего не умеют зеркала, ничего не могут они удержать, ни живых, ни мертвых, мерзкая стеклянная челядь, очевидцы, без умолку лжесвидетельствующие.
Зеркала привели ее в волнение, тогда, она все время вертела головой то так, то этак, рассматривала себя в различных ракурсах, оценивала свое тело, как только женщины умеют — глазами других людей, — видела его таким, каким видят его они. Со всеми этими рыжеволосыми женщинами мне предстояло спать тем вечером, даже с самой далекой, расстояние до которой было неизмеримо, рыжие пятна на черном фоне передвигающихся официантов, а я, я скукоживался, становясь все меньше, и, когда она касалась ладонью моей руки и все эти руки вместе так трогательно мелькали в зеркальных рамах, — взгляд ее изымал меня, мои измерения исключались, сводились на нет, тогда как ее — все росли, она впитывала взгляды посетителей и официантов, никогда еще она не существовала в таком избытке. Зеркала были полны ею настолько, что я и теперь все пытаюсь найти ее в них — но не вижу ее. Где-то там, в архивной компьютерной памяти за лоснящимся лбом того вон мужчины, что уставился на меня, там она сидит, болтая, смеясь, жуя, кокетничая с официантами, вонзая свои, о, какой белизны, зубы в портвейн, словно он — кусок мяса. Я знаю ту женщину, она еще не чужая, какой стала позже. А потом мы еще гуляли тем вечером, и даже сейчас, спустя двадцать лет, не нужно мне никакого клубка или хлебных крошек, чтобы вновь отыскать тот наш путь, я лишь иду следом за желаньем и тоской. Я хотел направиться к причудливому выступу на Праса до Комерсио, где две колонны поднимаются из медленно колышущихся волн, будто ворота в океан и в остальной мир. Там высечено имя диктатора, но сам он исчез вместе с анахронизмом своей империи, вода тихонько подтачивает колонны. Ты еще можешь разобраться в моих временах? Все они — одно лишь прошедшее, а я сбежал, ускользнул, не сердись. Вот я и снова здесь, несовершенное, которое в прошедшем размышляет о прошлом, в imperfectum о plusquamperfectum. То настоящее было ошибкой, оно действительно лишь теперь, лишь перед тобой, хоть и нет у тебя ни имени, ни названья. Здесь, в конце концов, мы оба присутствуем в настоящем, нас пока двое, пока.