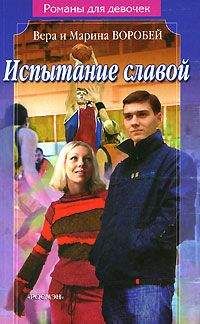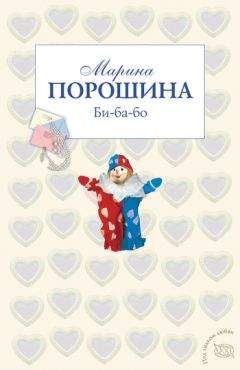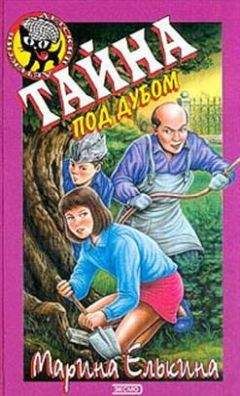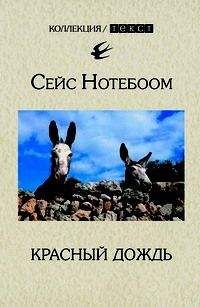Сейс Нотебоом - Следующая история
«Как вы видите, фильм укорочен и смонтирован, в действительности же процесс был снят на пленку целиком и продолжался около восьми часов».
Сокращенная версия шла тоже довольно долго. Кадавр скрючивался, становясь все круглее, больше и больше напоминая шар: лапки переплетены вместе, голова крысы, вмятая в брюшную полость, совсем пропала из виду, жук продолжал свою пляску смерти вокруг мохнатого клубка.
«Это называется падальным гнездовищем».
Падальное гнездовище, я попробовал эти слова на вкус. Никогда прежде не слыхал. Всегда благодарен за новое слово. А это выражение оказалось еще и красивым. Покрытое мехом ядро из крысиной плоти медленно закатывалось в траншею.
«Теперь в могильном углублении самка начнет спариваться с самцом».
В полумраке кто-то громко причмокнул, будто целуясь.
Включив свет, она взглянула на долговязого прыщавого паренька в третьем ряду: «И затаился? Не строй из себя паиньку».
Паинька. Словечко-то какое! И произнесла она его нараспев, как все северяне. Свет снова погас, но я знал, что тому смутному, неопределенному чувству, которое я к ней испытывал, внезапно назначено было стать любовью. Затаился? Не строй из себя паиньку. Два жука слегка поскреблись друг о друга, словно получив приказ, да так оно, собственно, и есть. Мы — единственный вид, уклонившийся от первоначального намерения. Вечно одна и та же возня, вихляние, еще более странное оттого, что большинству-то животных при этом даже ложиться не нужно, так что в копошении там, на экране, было что-то от неуклюжей, разухабистой пляски, когда один должен двигать другого по кругу, и все это — в мертвой тишине. Танец без музыки, а ведь когда те танки налезали друг на друга, стоял, наверное, невообразимый грохот. Но может, у жуков вообще нет ушей, забыл об этом спросить. Два броневика вдруг расцепились, и один принялся гоняться за другим. Я давно уже перестал различать, кто есть кто. Она знала.
«Теперь самка изгоняет самца из могильного углубления».
Гудение в классе, девочки издают звуки повыше. Сквозь шум я услышал ее одобрительный грудной смех и почувствовал обиду.
Потом самка стала выкапывать вторую канавку, «инкубационные камеры для кладки яиц». Вот и еще выраженьице. Эта женщина учила меня новым словам. Вне всякого сомнения, я любил ее.
«Через два дня она отложит туда яички. Но прежде она станет размягчать падаль».
Яички. Никогда не приходилось видеть, как тошнит жука, теперь увидел. Сидел на уроке у женщины, которую любил, и смотрел, как из стократно увеличенной, напоминавшей фантастическое чудовище головы жука, которого называли могильщиком, извергается зеленый желудочный сок на круглый комок стервятины, что еще час назад видом был похож на дохлую крысу.
«Теперь она станет прогрызать в падали отверстия». Так оно и случилось. Землеройная машина, мать, яйценосительница, любовница, mamma[30] отъела кусок от крысиного клубка и снова выблевала это в ямку, которую только что выгрызла в том же самом крысином шаре. «Таким образом она подготавливает желоб-кормушку». Падальное гнездовище, инкубационная камера, желоб-кормушка. И ускорение времени: через два дня яйца, спустя пять дней личинки. Нет, мне известно, что время невозможно ускорить. Или — возможно? Яички белые и блестящие, капсулы цвета спермы, личинки в мягких колечках — ожившая слоновая кость. Мать впивается в крысиное пюре, личинки облизывают ее челюсти. Пять часов спустя они могут есть сами, на следующий день они уже ползают внутри свернутого в клубок кадавра. Caro DAta VERmibus, плоть, отданная червям. Латинистская шуточка, прошу прощения. Вспыхнул свет, гардины раздвинуты, но вот что и впрямь вспыхнуло — так это ее волосы. Снаружи светило солнце, каштан шевелил на ветру ветвями. Весна, но в класс прокралось уже представление о смерти, о связи между умиранием, совокуплением, пожиранием, видоизменением, о ненасытном движении той зубастой цепи, которая и есть — жизнь. Класс рассеялся вовне, мы же так и оставались стоять с чувством какой-то неловкости.
«В следующий раз — личинки мух и клещи».
Она произнесла это с вызовом, будто обнаружив, что я слегка ошарашен. Казалось, все увиденное неким образом имеет отношение к ярости. К ярости — или к воле. Перемалывающие челюсти, средневековое бряцание спаривающихся панцирей, блестящие слепые маски личинок, берущих пищу из бронированной материнской пасти, — настоящая жизнь.
«The never ending story»,[31] — изрек я. Гениально, Сократ. До чего еще додумался за последнее время?
Она надула щеки. Как делала всегда, размышляя о чем-то.
«Не знаю. Когда-нибудь все-таки конец этому должен прийти. Ведь начало-то было». И снова вызывающий взгляд, словно она вот только что изобрела прошлое и теперь хотела опробовать его с самых азов. Но так быстро прогнать меня из могильной ямы я не давал.
«Ты завещаешь себя кремировать?» С таким вопросом не пропадешь в любой компании. Тело того, к кому он обращен, низводится до уровня вещества, которое в определенный момент нужно будет убрать прочь с дороги, и это привносит нечто пикантное, прежде всего в эротические ситуации.
«Как?» — она не ожидала.
«Слышал от одного патологоанатома, что это больно».
«Чушь. Ну, может быть, локально что-то еще и чувствуешь».
«Локально?»
«Ну да. Если сжигаешь дотла спичку, она вся перекручивается, что, разумеется, местами приводит к возникновению огромных напряжений в материале».
«В Непале мне довелось однажды видеть публичную кремацию, на берегу реки». Солгал, я всего лишь читал об этом, но тогда я действительно видел тот костер.
«О! И как это было?»
«Череп лопнул. Хлопок был такой — с ума сойти. Будто огромный каштан треснул в жаровне».
Она было рассмеялась, но тут же лицо ее застыло. Снаружи, по площадке для игр — не знаю, так ли все еще называют ее до сих пор, — мимо проходили Аренд Херфст и Лиза д'Индиа в спортивных костюмах. Ничего предосудительного, ведь он был тренер команды. Херфст просто из кожи вон лез. Со своей вечной улыбкой поэт походил на тех личинок, которых я только что видел.
«Ты в ее классе ведешь?» — спросила Мария Зейнстра.
«Да».
«И как она тебе?»
«Единственная моя радость на старости лет». Мне было за тридцать, и говорил я это без малейшей иронии. Никто из нас обоих не смотрел на Херфста, мы видели только, как женщина, идущая рядом с ним, изменяла наружное пространство, как по мере ее движения вместе с ней постоянно перемещался и центр площадки.
«Тоже успел влюбиться?» Это должно было прозвучать насмешливо.
«Нет». Это было правдой. Я уже объяснял.
«Можно в следующий раз прийти к тебе на урок?»
«Боюсь, тебе не понравится».
«Там сама разберусь».
Я смотрел на нее. Зеленые глаза наполовину прикрыты рыжей челкой, непослушной занавесью. Звездное небо веснушек.
«Тогда приходи на урок по Овидию. Там тоже происходят кое-какие изменения. Правда, не крысы превращаются в падальные гнездовища, но все-таки…»
Что бы мне почитать в классе на этом уроке? О Фаэтоне, о половине Земли, что гибнет в пламени? Или о мраке подземного мира? Я попытался представить себе ее сидящей у себя в классе, но не смог.
«Что ж, пока», — и она ушла. Позже, войдя в учительскую, я увидел, что она поглощена неприятным разговором со своим супругом. В его неснимаемой улыбке теперь было что-то издевательское, и тут я впервые увидел, насколько она ранима.
«Тренировочный костюм снимать надо, не подходит он для трагических диалогов», — хотелось мне сказать ему, но я никогда не говорю, что думаю.
Жизнь — ведро с нечистотами, которое становится все полнее, и до самого конца нам приходится тащить его с собою, не выпуская из рук, сказал, должно быть, Блаженный Августин, латинский текст мне, к сожалению, так и не удалось разыскать. Если это не апокриф, он, конечно, включен в «Confessiones».[32] Я давно уже должен был бы ее забыть, ведь столько времени прошло. Горю надлежит запечатлеваться в чертах лица, а не в памяти. К тому же оно давно уже вышло из употребления, горе. О нем теперь почти ничего и не услышишь. Да и буржуазно это. Вот уже двадцать лет — никакого горя. Прохладно здесь, наверху; в парке я следовал за белым павлином (почему для всех белых животных не существует одного особого слова, есть только для лошадей?), как будто это было целью моей жизни, а теперь сижу на внешней крепостной стене замка и смотрю на город, на реку, на чашу моря позади нее. Олеандры, лавры, большие вязы. Рядом сидит девушка, что-то пишет. Слово «прощание» витает вокруг меня, и я не могу поймать его. Весь этот город — прощание. Край Европы, последний берег первого мира, где подточенный континент медленно погружается в море, струится прочь, туда, в великий туман, с которым океан так схож сегодня. Этот город не принадлежит настоящему времени, здесь всегда — прежде, потому что здесь — позже. Банальное «теперь» еще не наступило, Лисабон медлит, колеблется. Вот оно, наверное, то самое, нужное слово, этот город оттягивает прощание, здесь Европа расстается с самой собою. Медлительные песни, неспешное разрушение, великая красота. Воспоминание, отсрочка метаморфозы. Ничего подобного я никогда не написал бы в путеводителе д-ра Страбона. Этих остолопов я пошлю под навесы, где распевают fado,[33] пускай трескают свою жеваную-пережеванную порцию saudade.[34] Слауэрхофа и Пессоа придержу для себя, направлю толпы в Мурариа или в кафе «А Бразилейра», но дальше — ни-ни, скорее язык себе откушу. От меня им не услышать о подменах души пьяницы поэта, о том текучем, многообразном «я», которое во всем своем мрачном сиянии до сей поры бродит по здешним улочкам или сидит незримо в сигарных лавках, не услышать о набережных, стенах, сумраке сомнительных кафе, где они со Слауэрхофом уж наверное встречались, ничего друг о друге не зная. Текучее «я», об этом зашла речь после того, как она в первый и единственный раз побывала у меня на уроке. Ей на такие вещи было совершенно наплевать, а я никогда не смогу объяснить, что под этим имею в виду. Regia Solis erat sublimus alta columnis…[35] «Метафорфозы», Книга II, так начался мой урок, и д'Индиа высоким звонким голосом перевела: «Дворец Солнца стоял высоко на возвышающихся колоннах…», — а я сказал, что «гордо», мне кажется, лучше, чем «высоко», потому что «возвышающийся» звучит безобразно, и к тому же нужно избежать повтора однокоренных слов, и она, закусив чуть не до крови губу, прочла еще раз: «Солнца дворец гордо стоял на высоких колоннах…», и лишь тогда дурная моя сократова башка догадалась, что я был единственным, кто не знал еще об этой связи, и что д'Индиа знала, что Зейнстра знала, и что Зейнстра знала, что д'Индиа знала, что она знает, и что она это знает, в то время как я несся дальше — о fastigia summa,[36] и о Тритоне, и о Протее, о Фаэтоне, который медленно взбирался по крутой тропе ко дворцу своего отца и не мог приблизиться из-за всепожирающего жара, что царит в доме божественного Солнца. Только бы не видеть третьесортной драмы за партами передо мной, продолжать тараторить погромче о неотвратимой гибели Фаэтона. Жалко? Никогда! Никогда? Любой кретин заметил бы страх во взгляде Лизы д'Индиа, и я до сих пор вижу перед собою ее глаза подстреленной лани; голос — звонче, чем всегда, но намного мягче обычного. Правда, позади них я видел глаза другие, и этим глазам я рассказывал о сыне бога, которому один лишь раз захотелось объехать землю на солнечной колеснице отца. Ты знаешь, конечно, что кончится все плохо, что неразумный сын Аполлона рухнет наземь вместе с золотой колесницей и огненными конями. Пляшущим дервишем я скакал перед классом, этот номер был гвоздем моей программы, успех обеспечен, распахивались пурпурные врата Авроры, и сквозь них шествовал обреченный на гибель, ведя в поводу коней под драгоценной сбруей, — немощный отпрыск бессмертных перед роковой своей скачкой. Еще миллионы раз разобьется он в этих гекзаметрах, а я так и не замечал ничего из единственного представления той телевизионной мелодрамы, что разыгрывалась передо мною, и, разумеется, не видел роли, что отводилась в ней мне самому; ведь сам я был там, в той сверкающей золотом, серебром и самоцветами повозке, я сам правил неукротимой четверкой, гнал ее по пяти небесным поясам. Что он говорил, Солнце, отец мой? Не слишком высоко, иначе сожжешь небо, но и не слишком низко, не то уничтожишь землю… Но меня уже нет здесь, я несусь по воздуху, овеянный громовым ржанием, вижу ураган копыт, кинжалами раздирающих облака в клочья, а потом — это уже случилось, колесница летит в небе, выброшенная из вечной своей колеи, яростный свет безудержно бьет во все стороны, кони цепляют копытами воздух, зноем опалена шкура Большой Медведицы, чувствую, как тьма затягивает меня вниз, знаю, что сорвусь, горы, земли мелькают мимо, проносясь в смятении и хаосе, от испускаемого мною жара полыхают леса, вижу черные капли ядовитого пота Скорпиона, вздымающего гигантский хвост, целящего в меня своим жалом, вспыхивает летучим пламенем Земля, нивы сожжены до белесого пепла, Этна изрыгает в меня мой же огонь, тают в кипении горные ледники, клокочущие реки рвутся из берегов, весь беззащитный мир я увлекаю с собою в гибель, жар исходит от моей колесницы, горит вавилонский Евфрат, в смертельном ужасе мчится прочь Нил, пряча, спасая свои истоки, вопиет все сущее, а потом — Юпитер мечет свою смертоносную молнию — ту, что испепеляет меня, сметая с колесницы жизни, кони вырываются из упряжи, и я пылающей звездой несусь к земле, тело мое исчезает в шипящих волнах реки, труп мой — обугленный камень на дне потока… И вдруг слышу, как тихо в классе. Они смотрят на меня, будто никогда прежде не видели, и, чтобы не разрушить образ, я поворачиваюсь спиной ко всем устремленным на меня глазам, и к тем, зеленым, тоже, и пишу на доске, будто это не напечатано в раскрытом перед ними учебнике: