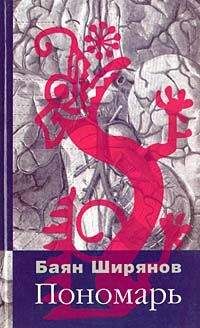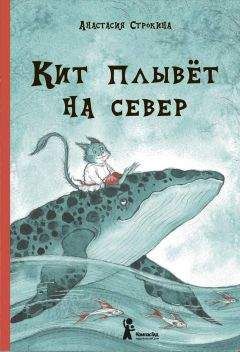Дэвид Эберсхоф - Пасадена
Зиглинда всегда думала, что раз ее мать появилась из океана, то, значит, и сама она почти дитя воды; Зигмунд считал, что это слишком уж нелепо. «Только девчонка может сказать такую глупость», — фыркал он, отбрасывая красную кисточку ночного колпака через плечо и спуская очки на кончик носа. «Только мальчишка может решать, что девчонке можно говорить», — дерзила она в ответ.
Как-то раз вечером, в конце лета тысяча девятьсот четырнадцатого года, она раздумывала об этом. Вдруг Дитер попросил их с братом пройти на кухню, к столу. Зиглинда тут же насторожилась, потому что время было не обеденное и день рождения никто не отмечал. Ей исполнилось одиннадцать лет, она все время пропадала на ловле лобстеров и поэтому нетерпеливо спросила: «Ты долго? А то мне некогда». Она собиралась идти к океану, когда Дитер и Валенсия позвали ее в дом. А она хотела сплавать к своим ловушкам, пока не начался прилив.
— Посиди хоть раз спокойно, — одернул ее Зигмунд и ущипнул за руку.
Она присела у края стола, уже одетая в свое платье для плавания с открытыми плечами, из-за чего сильно волновался Дитер, а еще больше Зигмунд.
Как раз в это время прилив стоял так низко, что если бы сейчас она оказалась на берегу, а не в своем темном доме, то смогла бы набрать не один десяток пурпурных морских ежей, а лобстеров еще больше — ясное дело. Они с отцом договорились (только через много лет понимаешь, как несправедливы такие сделки), что с каждого доллара, который Зиглинда выручит на рынке за рыбу или лобстеров, она оставляет себе один цент; она была не жаднее других детей, но при мысли об этом центе в глазах Зиглинды загорался огонек.
Окно в алькове было закрыто ставнями, и от этого в кухне было совсем сумрачно, хотя за дверями дома сиял солнечный день. Зиглинда уселась на лавке у длинного стола, на котором каждый вечер стояла картошка, сваренная в мундире, с маслом и кислым молоком, чуть горьковатая от лимонного сока, которым ее поливали, и не чувствуя никакого страха (ей казалось, что она всегда останется такой), нетерпеливо заболтала ногами.
— Мне нужно что-то сказать вам, — заговорил наконец Дитер. — Что-то очень, очень серьезное.
— Ну, что? — откликнулась Зиглинда и с отвращением подумала, что скоро сентябрь, а значит, она опять пойдет в школу на самом краю вонючего соленого озерца, где мисс Уинтерборн, в застегнутой до самого горла блузке, с затянутыми в пучок волосами, вооруженная мухобойкой, ходит вдоль рядов и безжалостно хлопает по руке любого, кто посмеет хотя бы пискнуть.
Мухобойка мисс Уинтерборн била по рукам Зиглинду так часто, что ей было уже не больно; в прошлом учебном году мисс Уинтерборн как-то целый день хлестала Зиглинду, но никто не услышал от нее ни звука. Зиглинда сидела совершенно прямо и величественно, протягивая руку для очередного шлепка, как принцесса для поцелуя. Ее переполняла гордость, что она такая умная, уж во всяком случае, гораздо умнее, чем противная мисс Уинтерборн, умнее любого ученика в этой кишащей мышами школе, а особенно умнее Шарлотты Мосс, которая вечно сосала концы прядей своих волос и просилась написать еще одно домашнее сочинение. Так Зиглинде казалось до самого последнего школьного дня, до той минуты, когда мисс Уинтерборн последний раз в году прозвонила в звонок, подошла со своей мухобойкой к Зиглинде и звонко шлепнула ее по щеке. Потом мисс Уинтерборн еще раз прозвонила в звонок, и Зиглинда, как ни сдерживала себя, разразилась слезами. Зигмунду тогда пришлось нести ее домой на спине.
Теперь был август, фигура мисс Уинтерборн замаячила на горизонте, и Зиглинда не могла понять, что для нее может быть более серьезного.
— Война… — начал Дитер.
— В Европе, — подхватила Валенсия.
— Германия кашу заварила.
— Что это значит? — спросил Зигмунд, мгновенно проникшись всей серьезностью этой новости.
— Это значит, что мир изменился на наших глазах. Один-единственный длинный день — и все. Значит, нам тоже придется меняться.
— А мы-то здесь при чем? — спросила Зиглинда.
— Германия теперь враг, — ответил отец.
Зиглинда не услышала, что он сказал, потому что думала о том, сколько лобстеров будет у нее в ловушках: в это время должно быть штук по шесть, не меньше. Она уже прикинула, сколько может выручить за них в цехе, где потрошат рыбу, и сколько центов она оставит себе. Она копила на фетровую шляпу с белоснежным орлиным пером, которая лежала в лавке Маргариты; откладывать деньги ей нужно было бы, наверное, целый год, но она твердо решила стать ее владелицей. Раз в месяц она заходила к Маргарите, надевала шляпу, вертелась перед зеркалом и важно говорила, что как-нибудь обязательно зайдет и купит эту «шапо», — она даже называла ее по-французски.
— И почему это ты думаешь, что эта заваруха в Европе коснется и нас? — спросила она отца.
— Зиглинда, девочка, — сказала Валенсия, — мы обо всем мире говорим. Мир в опасности.
— Мне все равно.
— Ты замолчишь или нет? — оборвал ее Зигмунд. — Пока по башке не получишь, ни о чем серьезном думать не можешь.
Она все время задирала Зигмунда, но он поставил ее на место, и ей стало очень плохо, гораздо хуже, чем даже когда ей доставалось от мисс Уинтерборн. В свои одиннадцать лет она изо всех сил любила брата, точно так же как другие девочки любили лошадей или отцов.
— Нам нужно кое-что поменять, — продолжил Дитер. — И в первую очередь — имена, а то к нам будут плохо относиться.
Зиглинда никак не могла взять в толк, почему из-за того, что какие-то там немцы хотели драться с какими-то там бельгийцами на горчичном поле, ей теперь придется менять имя. Ее немецкое имя значило для нее все — такое было только у нее, и ни у кого больше, ей нравилось произносить его отрывисто, точно отдавать команду. У нее чуть было не вырвалось: «Ну а где эта Германия?» Только она и сама знала где: гораздо дальше, чем родина ее матери — Мексика.
— Как же мы их поменяем? — спросил Зигмунд.
— Мы больше не Штумпфы. С сегодняшнего дня мы берем фамилию Стемп.
— Стемп? — воскликнула Зиглинда. — Да это почти как штемпель на марке!
Валенсия взяла ее за руку и начала говорить, что все девочки мечтают о том, как вырастут и сменят фамилию. «Только ты сделаешь это раньше остальных», — уговаривала она.
Но Зиглинда вовсе не мечтала об этом и сердито сказала:
— Это значит ставить штемпель на мозг? Вот возьму его и буду ставить, ставить и ставить тебе на голову, пока не умрешь.
— Перестань, пожалуйста. — Зигмунд осторожно погладил ее по руке.
— И потом, Зигмунд… Теперь мы все будем называть тебя Эдмунд.
— Вот и хорошо, — откликнулся он.
Ему исполнилось семнадцать лет, у него над губой уже пробивались усы, на ногах тоже появился пушок, а от подмышек остро пахло мускусом.
— Эдмунд? — воскликнула Зиглинда. — Вот это да — Эдмунд! Посмотрите-ка! Ха-ха-ха!
Все посмотрели на нее, и она вдруг увидела себя в каждом из членов своей семьи. До нее дошло, что Штумпфы из «Гнездовья кондора» не были ни мексиканцами, ни немцами. Они были калифорнийцами, и история этого уголка земли стала и их историей тоже.
Дитер обратился к ней и сказал:
— А твое имя теперь будет Линда.
Она перестала болтать ногами и ответила:
— Линда? Какая еще Линда?
Мать ответила:
— Вот такая.
— Но это же глупо! Я Зиглинда! Ничего себе — просто так взять и поменять мне имя!
Она помолчала немного и спросила:
— Разве так можно?
Линда сидела не шевелясь. Все смотрели прямо на нее, и она почувствовала, как под ней что-то шевелится — скамейка, что ли? Постепенно она начинала понимать, что этот поздний летний вечер, когда над обрывом летают бабочки, а в океанской воде качается ее буек, когда меняется ее имя, меняет что-то в ее жизни. Солнце било через щель чуть приоткрытой двери. Под этим ярким светом там, за дверью, ее ждало что-то новое. И вдруг, не сообразив даже, что она делает, бывшая Зиглинда Штумпф, а теперь Линда Стемп, девочка одиннадцати лет от роду, которая чудом пережила и скарлатину, и удар копытом, который она получила от испугавшейся лошади, и укол молодого ската, встала из-за стола, кинулась во двор, где чистили перышки курицы-бентамки и почесывался лошак, и понеслась вдоль старого русла к берегу, восклицая про себя: «Линда Стемп! Линда Стемп! Что еще за Линда Стемп?»
2
Нe успели войска кайзера прокатиться лавиной по холмам Бельгии под лавандово-синим небом лета четырнадцатого года, как Дитер Штумпф, который теперь говорил всем, что его зовут Дэвид Стемп, сложил в мешок холщовые штаны, свитер из плотной шерсти, шапку-ушанку, винтовку и пару плоскогубцев. «Ухожу на войну», — сказал он. Казалось, что пожилому фермеру, всю жизнь растившему лук, такое не по плечу: борода совсем поседела, лицо избороздили морщины, костяшки пальцев распухли, как суставы на ногах барана. Он был готов идти, но тяжелый рюкзак гнул его спину, а винтовка в руке казалась неправдоподобно большой. «Думаешь, и тебе тоже надо?» — спросила Линда. Отец только помахал рукой на прощание и пошел по гребню холма, со своей тяжелой ношей на плечах, высвистывая мотив песни «Она родилась в океане, погибла в пучине морской…». Шарлотта Мосс, которую Линда без всяких размышлений считала своей лучшей подругой, пришла, чтобы своими глазами увидеть проводы, и, как всегда, торопливо описывала это событие в своем маленьком блокноте. «По-твоему, куда он отправился?» — спросила Шарлотта, дочь охотника за тюленями, голову которой венчала шапка пушистых волос. Когда через час Дитер вернулся, потому что забыл свою счастливую киянку, она задала этот же вопрос ему. Он ответил: «На фронт, к мальчикам. Я вернусь, не волнуйся». Он попрощался, повесил киянку на пояс, опять ушел, и больше никто его не видел.