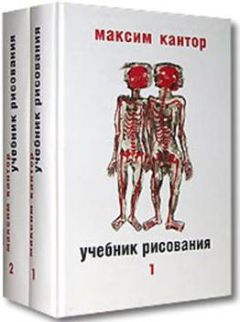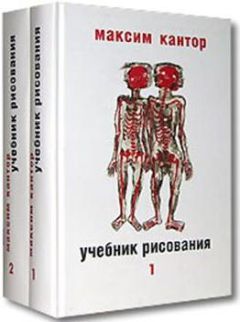М.К.Кантор - Учебник рисования, том. 1
- Случайно все совпало - дуэль, яд, и настроение, видать, было хреновое. Папа умер, дождь, девушка утонула. Ну, как оно бывает?
- Но когда, когда, скажи - все это сошлось в одно?
- Когда посмотрел представление - оно отразило всю его историю. Он посмотрел - решил: все, пора. Хватит время тянуть.
- Видишь! Еще одно зеркало! Тоже зеркало! И ты прав, ты прав, - вдруг горячо заговорил историк, хватая друга за руку, - ты прав, что для каждого играется своя пьеса. И я тоже прав, когда сказал, что пьеса всего лишь одна - одна на всех. Понимаешь?
- Нет, мой пылкий друг, не понимаю.
- Я имею в виду такое зеркало, в котором отразится все сразу. Мышеловка - сыграна и для короля, и для Гамлета, и попадают в нее оба. Просто король видит в представлении аллюзию своей истории, а Гамлет - структуру истории вообще. И Гамлет понимает, что его судьба - это такая же пьеса внутри другой пьесы, как «Мышеловка» - внутри пьесы «Гамлет».
- Все ты запутал.
- Наоборот, распутал. Гляди. Если можно вставить одну пьесу внутрь другой - значит, это происходит постоянно. Это - простое понимание. Если судьба любого из твоего окружения - есть инвариант твоей судьбы, то почему не предположить, что все судьбы вместе - инвариант чьей-то еще? Есть пьеса «Гамлет» а внутри у нее есть вставная пьеса «Мышеловка». Но есть и другая пьеса, которая размерами и значением еще больше «Гамлета», и «Гамлет» в ней, в этой большей пьесе, - такое же вставное представление. Понимаешь? Герой неожиданно это понял. Он смотрел на судьбы других теней - на судьбы своих двойников. Вернее сказать так: он думал (и мы вместе с ним думали), что все они - его двойники. И неожиданно этот зеркальный ряд распался, когда он увидел, что они вставлены не в его пьесу, как он самонадеянно решил, а они - вместе с ним - внутри большей пьесы. Понимаешь теперь? Он вдруг видит это там, в театре. Его судьба - такой же вариант чьей-то еще судьбы, как судьба Лаэрта - вариант его собственной. Понимаешь?
- Ты хочешь сказать, что для Лаэрта написана пьеса «Гамлет», а для Гамлета - какая-то еще, другая пьеса?
- Та, другая пьеса, написана для всех.
- И даже для министра энергетики? Ему точно закон не писан.
- Писан. Просто он не читал.
- А как называется другая, большая пьеса?
- Разве ты сам не знаешь?
- Нет.
- Она называется «Отец и сын». Внутри нее играется «Гамлет». Единственный судья для сына - отец, и последний приговор отцу выносит сын. Эта цепь не может быть разомкнута - что они друг без друга?
- А чем эта главная пьеса кончается?
- Как чем?
И оба мальчика замолчали. Потом один сказал:
- Гамлет пугается в понятиях, отправной точкой для него является судьба отца.
- А потом?
- Потом он начинает другой счет.
- Откуда?
- От отца, откуда же еще. Другого счета не бывает.
- Ты меня совсем запугал.
- А все просто, надо только подумать.
И опять мальчики замолчали, и молча прошли еще круг под липами, мимо дома Лугового и Левкоева.
- Ты имеешь в виду небесного отца? - сказал другой мальчик.
- Наконец додумался.
- Страшная пьеса.
- Ты про какую?
- «Гамлет». Та, главная, утешительная.
- А мне кажется, это одна и та же пьеса.
- Пойми, пожалуйста, - сказал другой мальчик, - невыносимо знать, что из любой пьесы выходит один и тот же сюжет. Это совсем не утешает. Это оскорбительно для всех - для Гамлета, для тебя, для меня. И это должно быть оскорбительно для той, главной пьесы. Зачем отцу такой сын, который не живет самостоятельно?
- Но Гамлет живет самостоятельно. Он сам все придумал, его не об этом просили. Отцу его хватило бы, чтоб он свел счеты с Клавдием и сел на трон.
- А другому отцу - тому всегда мало. Ему, что ни дай, - все мало. Он всегда скажет: ты можешь больше.
- Ему всегда мало.
- Вот что ужасно - вырвешься из одного сюжета, думаешь: убежал! А ты не убежал и никогда не убежишь. Куда деться? Как побег из сибирского лагеря, - никто из мальчиков не был в тайге, но им казалось, что они знают, как бывает, - как побег из лагеря: перелез ограду, а там - тайга. Не убежишь, потому что некуда. Будь оно все проклято!
- Что - все? - спросил мальчик.
- Я скажу тебе, только ты не поймешь. Я русский, и жить мне в России. И я не связан, как ты, с этими Рихтерами, которые сегодня здесь, завтра - там. У меня нет другой родины, и не будет никогда. И жизни у меня другой нет, и никогда не будет. Я не могу примерять на себя, как ты, сначала одну жизнь, потом другую, - у меня нет лишних в запасе. Я хочу прожить свою жизнь, и, по-моему, это немало. И вот, когда жизнь в России повернулась - пусть на чуть-чуть, пусть немного, - когда я чуть свободнее вздохнул, когда появилась у меня надежда, что Россия заживет не коммунистической, не исторической, а просто своей жизнью, - так появился умник (и всегда найдется такой), который говорит: стой, не уйдешь. И показывает мне, что куда бы я ни выпрыгнул, - все равно окажусь в чужой истории. Полюблю я Соню Татарникову или не полюблю - все равно выйдет, что это не вполне моя жизнь, моей собственной жизни - у меня нет.
- Но собственной истории ни у кого нет, - сказал мальчик, - мы все в одной большой истории. И нет такого сюжета, через который не просматривался бы другой сюжет - главный сюжет. Спрятаться нельзя.
- Тени в пещере. Хорошо. Но тени - чего? Вот что мне не дает покоя. Что именно отбрасывает тень - вдруг это какая-нибудь мерзость? Что моя жизнь всего лишь тень, меня убеждают ежечасно, и уже убедили. Все гладко получается: каждая пьеса встроена в большую, в более важную пьесу, и нет у меня даже тени надежды на то, что я не буду чьей-то тенью. Пусть так. Но скажите - чьей именно? Как я могу верить, что тот главный демиург, тот, что над нами, тот, что так складно расписал роли, - как я могу быть уверенным, что он не подлец?
- Это, пожалуй, чересчур. Это самое сенсационное разоблачение твоей газеты. Разве нет того, что совершенно постоянно? Вот этот главный демиург - он постоянен.
- Помнишь Ваньку? - спросил журналист. Ванька был их соученик, мальчик из деревни. - Помнишь его? Он уехал из Москвы в деревню Грязь. На родину. Скверное такое место. Не прижился он в Москве, не захотел быть брокером. И работает в деревне Грязь на всяких сволочей, строит им дачи.
- Ты зачем это говоришь?
- Так просто вспомнил. Я бы хотел, чтобы нашего Ваньку кто-нибудь защитил. Пусть отец в пьесе будет бесконечно добр. Он должен прощать и любить, обнимать и согревать - а не сулить расплату. Пусть он согреет нашего Ваньку. Я не поверю в героя - будь он сын короля или Бога, - который, желая вправить сустав у времени, вывихнет его у меня. Это обманная пьеса. Знаешь, какая самая страшная фраза в пьесе?
- Какая?
- «Клинок отравлен тоже». Потому что все остальное уже давно отравлено.
- Клинок отравлен тоже, - повторил мальчик, и ему стало не по себе.
17
Картина должна быть не красивой, но прекрасной - и разница между красивым и прекрасным огромна. Собственно говоря, это вовсе не совпадающие понятия.
Ни Папы, ни Принцы, сказал однажды Леонардо, не заставят меня заниматься тем, что не прекрасно по-настоящему. Высказывание это туманно: непонятно, зачем сильным мира сего заставлять художника делать что-либо несообразное прекрасному. Однако именно этим они и занимаются, исходя из обычных социальных нужд: миру требуется не прекрасное, но красивое. Обычная жизнь искусства, то есть те отправления, которые наполняют мир украшениями и милыми деталями быта, совсем не связана с идеалом. Миллионы людей, играющих в обществе роль художников, принимаясь за работу, стараются сделать красивую вещь, то есть такую, которая воспринималась бы зрителями одобрительно, ласкала бы глаз. И они правы. Трудно требовать от художника, чтобы он, создавая произведение, руководствовался не понятием красивого, но понятием прекрасного - исходя из характера художественного процесса, это было бы невыполнимой задачей. Искусство (живопись в частности) воплощается в наборе приемов, которые применяет художник для создания красивых вещей, красивых в той же степени, в какой красивыми бывают одежда, драгоценности или еда. Ремесленные навыки, т. е. умение гармонично сочетать цвета, сбалансировать композицию, - сами по себе ничем не отличаются от таких же ремесленных навыков ювелира, портного и повара. Надо помнить о том, что средневековый живописец входил в ту же ремесленную гильдию, что и ювелиры. Эту роль, т. е. вспомогательную, отвел художнику и Платон. История (история искусств как ее часть) постоянно возвращает художника в ремесленное состояние, объясняя ему, что идеальными формами будет заниматься кто-то иной - демиург, начальник, - а практическое украшение общества, построенного по чужим чертежам, доверено художнику.
Известная фраза Сократа, обращенная к красавцу Критобулу: «А теперь скажи что-нибудь, чтобы я мог тебя увидеть» - как нельзя точнее объясняет разницу между красивым и прекрасным. Прекрасное то, что имеет надмирный смысл, то, что связано с миром идей. Именно к этому состоянию стремится живопись. Существует очень мало образцов живописи такого рода - это искусство насчитывает немного мастеров. Сделанная материальным образом, красивая в качестве предмета обихода, используемая в интерьерах в декоративных целях, великая живопись существует по собственному усмотрению - ежесекундно опровергая свое утилитарное бытие. В той мере, в какой живопись способна преодолеть свою материальную природу, она становится прекрасной. Энергия, излучаемая картиной, ничего общего с красотой (постулируемой обществом в качестве таковой) не имеет: это эманация духа, который прекрасен именно в качестве нематериальной субстанции, так как бывает прекрасна совесть, или честь, или добро, - а стало быть, декоративными качествами обладать не может. Разумеется, картина - и в этом ее особенность - призвана воплощать дух, то есть найти оболочку для нематериальных понятий чести, совести и добра. И то, насколько эта оболочка будет прозрачна для эманации духа - или самодостаточно непрозрачна (как в случае с Критобулом), и решит: прекрасна картина или красива. Только в том случае, если картина способна отдавать зрителю заряд, укрепляющий душу и разум, т.е. способна передать эманацию прекрасного - она может считаться великим произведением; в противном случае - эта вещь является скорее декорацией и украшением.