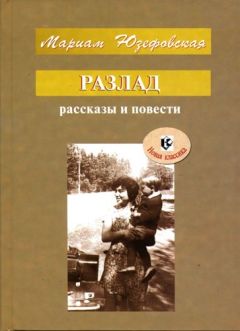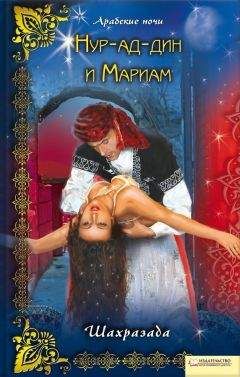Захар Прилепин - Обитель
Они ещё с полминуты стояли молча. Артём иногда вздрагивал или хотя бы морщился от выстрелов, Галя — даже не смаргивала.
Вернулись Сивцев и Захар. Наверное, по кровавым пятнам на одежде и по тому, как Артём чуть подвинулся, совсем не удивившись их приходу, Галя догадалась, чем занимаются все они вместе.
— Вы ещё не ели? — спросила она у Сивцева.
Сивцев вопросительно посмотрел на Артёма: чего говорить-то? стоит правду отвечать, нет?
Артём не поворачивал головы.
«А он ведь воевал, — медленно думал Артём. — А я нет. А он ждёт, чтоб я дал понять, как ему быть…»
— Дак мы непонятно чьи теперь — и не в роте, и не в карцере, — растерянно сказал Сивцев, поглядывая то на Галю, то на Артёма, то, наконец, и на Захара тоже.
— Идите в лазарет, — велела Галя, зачем-то поднимая воротник и заходя в здание. — Я позвоню, чтоб вас накормили и пустили помыться. Постирайтесь.
— Дак нам гражданин начальник Ткачук велел ждать, — плачущим голосом вослед ей крикнул Сивцев.
— И Ткачуку скажу, — не оборачиваясь, ответила Галя.
* * *На обед или уже на ужин им выпала гороховая похлебка и пшённая котлета, залитая киселём.
Артём долго смотрел на принесённые миски, потом вывалил котлету в суп и всё съел за треть минуты.
Иногда поднимал глаза то на Сивцева — евшего размеренно и обращённого в себя, то на Захара — старавшегося есть помедленнее, но без успеха; у Артёма возникал тихий зуд от желания рассказать им, что в карцер их упекла тоже Галя — зато теперь покормила, — видите, какая заботливая. Мало того, в карцере они сидели за его, лагерника Горяинова, и ещё одного… забубённого балалаечника — провинности.
В столовой для лекарей больше никого не было. Проводил их сюда сам доктор Али, сделавший вид, что Артёма не помнил, — хотя, может, и правда не помнил — мало ли тут перележало вшивого лагерного брата.
— А давайте ещё по тарелке? — с милейшим акцентом предложил вновь заглянувший в столовую доктор Али, гладя себя по бороде.
Все трое переглянулись, Артём в знак согласия несильно ударил концом зажатой в кулаке ложки о стол.
Доктор Али засмеялся, будто не знал большей радости, чем покормить трёх грязных могильщиков — он ведь тоже догадался, чем эти три горемыки занимались всю ночь и отчего за них просили из Информационно-следственного отдела.
«Какой милейший человек, — с прежней своей, раскислявшейся усталостью думал Артём, — а я ведь, помнится, сердился на него…»
Хотя, возможно, доктор Али просто благоволил к чекистке по имени Галина и хотел ей услужить: мало ли, вдруг она когда вспомнит и про эту нехитрую услугу и поможет в трудный день или, скажем, хотя бы расстегнёт однажды две верхних пуговицы на своей рубашке, даря белизной и светом.
Им принесли ещё по три пшённых котлеты каждому и по кружке чая — настоящего, не ягодного, — но не это поразило! — а то, что на краю каждой миски лежал, щедрой ложкой выхваченный из большого куска, шарик сливочного масла, нежнейшего, солнечного…
Не сговариваясь, все трое принялись за свои котлеты, и каждый, наклонившись к миске, всё косился на сливочное масло, словно оно могло вдруг растаять.
Артём, снова разобравшийся с едой самым первым, бережно подцепил волшебный шарик и, положив себе на горбушку руки, стал слизывать, жмурясь и пытаясь ежесекундно осознавать блаженное головокружение.
…Как своё масло съели Захар и Сивцев, он и не заметил.
Али больше не появлялся, зато трудник, тоже известный Артёму, принес ворох стираных штанов и рубах, и пиджаки, и старую душегрейку, и хоть в дырках, но всё-таки тулупчик.
— Ничейное, — сказал трудник. — Своё давайте — бабы постирают, завтра заберёте.
Захар вроде задумался: не побрезговать ли, с кого снято — не с покойных ли.
— А с кого же, Захар, — чуть хлопнул его Артём по плечу. — С них самых. Это ж лазарет — здесь кого могут вылечить — лечат, а кого не могут — хоронят.
Артёму было всё равно: его с самого утра знобило, а тут — сухоё всё, бабьими руками замыленное, выполосканное, отжатое.
Он разделся до исподнего, тут же, на глаз, выбрал, что ему будет в меру — и ни разу не ошибся. Только поверх всего опять надел собственный пиджак.
Захар последовал его примеру.
Сивцев со своим рваньём расставался неохотно, всё оглаживал себя и что-то разыскивал в карманах, где, кроме клопов, давно никто не гостил.
— Да не бойсь, — сказал трудник. — И это при вас останется, и ваше вернут. Зима скоро — всё сгодится и сносится.
Напоминание о зиме повлияло на мужика сразу.
Мыться не стали, а в обновах поскорей вернулись к отделу: вдруг их всё-таки ищут.
Со двора уже прибрали чаек — и было по-новому тихо, словно всё изготовилось к приходу снега, потому что в первое своё явление зима любит тишину.
Чекисты, которые весь день рыскали по ротам — то ли кого-то потеряв, то ли для острастки, привели на этот раз актёра, тот был отчаянно напуган и всё озирался, не появится ли кто из знакомого начальства, которое в прошлый раз так аплодировало ему.
Захар и Артём стояли рядом и друг на друга не смотрели, но подумали одно и то же одновременно: а не его ли придётся закопать сегодня…
Сивцев глядел в сторону, словно его томил стыд и сладу с этим стыдом не было.
«…Я сердился на Бурцева, желал ему дурного, — безо всякого желанья и даже против воли размышлял Артём, не столько словами, сколько их обрывками или ощущениями, слова подменявшими. — А теперь он — труп в земле. На кого я сердился, на труп? И вся моя раздражённость — её же закопали вместе с Бурцевым, или моё желчное чувство к нему, теперь осиротевшее, вернулось ко мне? И всю эту ржавь мне носить при себе, потому что деть её некуда и соскоблить нельзя?»
Олень Мишка, насмотревшийся за день на многое, людей старался избегать и только перебегал по двору то туда, то сюда, принюхивался, вытягивая голову, к воздуху, где по-прежнему чуял гарь и смерть собачьего товарища, и поводил ушами: не раздастся ли всё-таки знакомый лай или чаячий переклик.
Мишка и раньше не различал лагерников и чекистов, хотя желалось, чтоб первых он ласково обнюхивал и полизывал, а вторых бил копытом в живот, — а теперь стало ещё хуже: всю человеческую породу олень определил, как злую. Несколько раз уже Мишка подходил к воротам, подрагивая боками от волнения, но постовые его гнали назад, взмахивая тяжёлыми ручищами. От взмахов этих веяло волглым сукном, махоркой, оружейной смазкой.
Горшков, то ли весёлый, то ли сердитый, но необычайно возбуждённый и разговорчивый, вёл с двумя красноармейцами ещё одного лагерника. Горшков шёл первым, и взятого под конвой Артём сначала не рассмотрел.