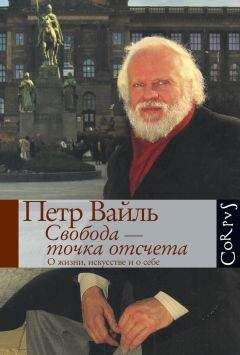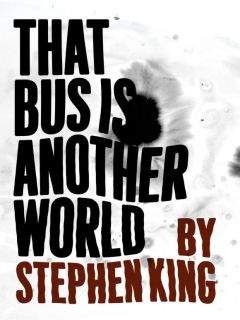Петр Вайль - Гений места
Неореализм потряс широким потоком быта. Мощные страсти могли кипеть на кухне, и таких декораций не надо стесняться. Отсюда та истовая и преданная, не зрительская, а родственная любовь, которую мы испытывали к Анне Маньяни, Софии Лорен, Марчелло Мастроянни, Джульетте Мазине, Росселлини, Феллини, Висконти. Да, гениальные художники, но главное: они оправдывали нас.
Итальянцы реабилитировали наш быт. И более того — сочетание быта с высотами искусства. Камера из полуподвала квартала Ламбрате взмывала на крышу Миланского собора, и гремели оперные бури. Пафос и красота — по нашей части, но без таких перепадов: в сталинском кино могли носить бабочки и лакированные ботинки, но как помыслить, что под черным бостоном кальсонная бязь? Уж мы-то знали, что это вещи разные. И вдруг оказалось, совместные: так носят. И у нас, слава Богу, был Большой театр и лучший в мире балет, да и кое-какая опера. По существу та же, что в Милане: в самый разгар борьбы с космополитизмом из репродукторов по всей стране неслись мелодии Пуччини и Верди.
«Ла Скала», который одно время существовал на деньги деда и дяди Висконти, — рядом с Миланским собором. От театра идет улица Мандзони, что правильно — один из оперных итальянских писателей. В фойе пузатые колонны с коринфскими капителями и четыре статуи: Россини, Беллини, Доницетти, Верди. Козырный итальянский набор, и никому не вклиниться, даже Вагнеру: он значителен, но не увлекателен; даже Чайковскому: мелодичен, но не универсален.
В «Ла Скала» нет сомнений, что театр начинается с вешалки. Гардеробный номерок похож на орден, который возвращать досадно, стоит как-нибудь прийти сюда в пальтишке похуже и не забирать его вовсе. Капельдинеры внушительны, как ресторанные соммелье, с цепью и бляхой, все важнее тебя, кланяешься, будто солистам.
Шесть ярусов невеликого театра — уступающего и парижской «Гранд-опера», и буэнос-айресскому «Колону», и лондонскому «Ковент-Гардену», и, конечно, нью-йоркской «Метрополитен» — построены так, что охватывают, обнимают тебя. Тишина от благоговения возникает сразу, как только занавес возносится к крылатым женщинам с часами в руках.
Вообще, тишина в оперном театре началась с Россини. Не вполне ясно: то ли его музыка была такова, что заставила публику прекратить болтовню и шатание по залу, то ли именно в то время власти решили навести порядок, и публика, наконец, услышала музыку, отчего и пошла баснословная популярность Россини. Так или иначе, первым стали слушать его. Тем любопытнее судьба человека, плюнувшего на всемирную славу, чтобы в парижском уединении изредка сочинять прелестную простую музыку, а постоянно — сложную дорогостоящую кулинарию. Попытки воспроизвести россиниевские блюда утыкаются в непомерные затраты. Ясно, что сочетание трюфелей с гусиной печенкой и сорокалетним коньяком порождено громоздкой оперной поэтикой, и то, что Россини сублимировал композиторский талант в гастрономические композиции, — объяснимо. По крайней мере, понятнее, чем молчание Фета или Рембо.
После спектакля в «Ла Скала» миланское ощущение театральности не исчезает. Пятиминутный проход к собору — мимо памятника Леонардо в окружении величавых позабытых учеников, под стеклянными куполами галереи Виктора Эммануила — на площадь, где кандольский мрамор в розовых прожилках кажется белоснежным на фоне черного неба, и видна каждая завитушка подсвеченного храма, а вверху парит невесть на чем держащаяся золотая статуя Богоматери — Мадоннина. Опера продолжается.
«Возможно, я чрезмерен в употреблении приемов, нетипичных для кино. Но вообще избегать театральности было бы неправильно, тем более если подумать о происхождении кино. Например, о Мельесе», — это слова Висконти.
Кино начинало с технических фокусов, из которых, собственно, и возникло. Из затей Майбриджа, ставившего десятки фотокамер вдоль трассы ипподрома, из французской «фотопушки», кинетоскопа Эдисона и прочих изобретений, которых было так много в ту эпоху и которые ощущались функцией позитивного разума, готового с помощью науки разрешить все мировые проблемы. Но у Жоржа Мельеса, первого кинорежиссера в современном смысле этого понятия, действо было синкретическим: наука и техника плюс театр.
По многообразию выразительных средств и способов воздействия опера — кино XIX века. Или по-другому: кино — опера XX века. Никто не понимал этого так, как Висконти. Установки неореализма (Дзаваттини: «Нужно, чтобы стерлась грань между жизнью и кинематографическим зрелищем») — это анти-Висконти. Примечательно его высказывание по поводу своего фильма «Самая красивая»: «Мы, режиссеры, все — шарлатаны. Мы вкладываем иллюзии в головы матерей и маленьких девочек… Мы продаем любовный напиток, который на деле вовсе не волшебный эликсир. Это просто бокал бордо, так же, как в опере». Имеется в виду «Любовный напиток» Доницетти — комедия с трагическим оттенком, хотя по сердцу Висконти всегда оказывалась чистая трагедия, с юмором у него было плохо.
Оттого, что ли, ему идет серьезный город Милан, который не совсем Италия именно по причине серьезности. Предприимчивый и амбициозный итальянец попадает в Милан почти неизбежно: здесь главный шанс. Деловитый город уважаем сторонниками американизма и ненавидим традиционалистами. Милан уходил в отрыв — на северо-запад от Средиземноморья — давно; о том грустил и Висконти: «Я всегда мечтал дать историю миланской буржуазии, взяв за исходный пункт мою семью, я хочу сказать — семью моей матери… (Милана той) поры уже нет… Но его можно найти в Павии, в Мантуе. Есть города, где еще имеется частица тогдашнего Милана…»
Мантуя в истории и современности самодостаточна, тут Висконти вряд ли прав. Но в Павию я отправился по его совету. Стояло воскресное утро, и действительно здесь оказался сонный Милан ушедших десятилетий. Павия, в получасе езды от деловой столицы Италии, застыла в забытом времени, словно музей миланской истории, с тихими зелеными дворами, булыжными мостовыми, огромным, нетронутым веками, замком Висконти, площадью в платанах, на которую выходит церковь с гробницей Блаженного Августина. Я шел от вокзала квартал за кварталом по пустым улицам, встречая лишь сомалийцев с турецкими платками и таиландскими часами на деревянных лотках. Покупатели только-только просыпались в одиннадцатом часу, слышен был стук ставен.
Следы фамилии Висконти, вроде павийского замка, в Северной Италии повсюду: кремлевского толка мощные стены с зубцами модели «ласточкин хвост». Провинциальная Имола под Болоньей известна только автогонками «Формулы-1», но и здесь — неприступная крепость знакомых очертаний. По всей Ломбардии, начиная с Милана, там и сям — стройные краснокирпичные башни, похожие на Никольскую, элегантнейшую в Москве.