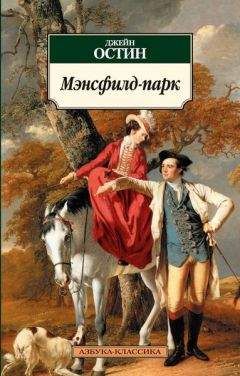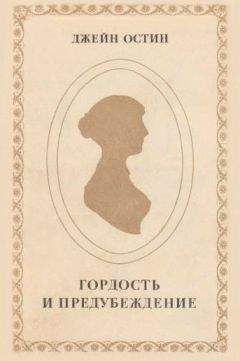Инга Петкевич - Плач по красной суке
— Я ни в чем не виноват, — твердо заявил отчим и прошел мимо, даже не попрощавшись.
В ту же ночь у нее был выкидыш. А поутру она вдруг вспомнила о коллекции. Отчим любил собирать большие противотанковые снаряды с цветными боеголовками. Ему дарили снаряды на военных заводах, где он выступал. Разумеется, они были полностью безопасны в быту, но сажали порой и за меньшее…
И вот слабая, больная женщина, истекая кровью, набивает этими снарядами сумку и, полумертвая от страха, проносит эту сумку через проходную (дом был ведомственный и охранялся).
Целый день, до самого вечера, она таскается с тяжеленной сумкой по улицам города. Выбросить на помойку — люди заметят. Она бродит по набережным, но везде полно народу. Все-таки один снаряд ей удается утопить… Ей кажется, что за ней следят. Из каждого окна, из каждой машины на нее глазеют люди… Поздним вечером, полумертвую от усталости, ноги сами приводят ее обратно к проклятому дому. И тут в забытьи изнеможения она высыпает снаряды под куст в скверике, как раз напротив собственной проходной…
Потом она лежала в больнице, после которой оказалась на улице, потому что квартира ее тем временем была опечатана.
Такие веселенькие истории моя матушка рассказывала довольно часто. Они любили рассказывать истории своих бед и злоключений. Мол, видите, какие страдания выпали на нашу долю (будто это были стихийные бедствия), а мы не ропщем, не бунтуем (только попробуйте!). Мы по-прежнему преданы и верны своей партии (будто не она именно с ними так обращалась).
Все эти ужасы блокады, репрессий и арестов мать излагала этаким веселеньким тоном, наскоро и грубо подкрашивая беспросветный кошмар своей жизни элементами черного юмора. Все их поколение любило оживлять трагические этапы своей биографии комическими деталями. Они вообще были великими комедиантами. Этот комизм, защитная реакция на любое осмысление, спасал их сознание от жестокой реальности и даже от безумия. Но мне кажется, что они всего лишь подменяли один вид безумия другим, более для них приемлемым и выгодным. Как всякие плохие актеры, они, разумеется, передергивали и переигрывали, но вполне искренне возмущались и обижались, когда их хватали за руку.
Мне так никогда и не удалось понять, кем же на самом деле была моя матушка. Она так судорожно и страстно цеплялась за свою маску, что та стала как бы ее вторым лицом. Снимать ее уже было неприлично — под ней мог обнаружиться сырой, бесформенный блин.
В больнице мать пролежала больше месяца и чуть не умерла там от перитонита. Навестила ее однажды только домработница, которая и сообщила, что квартира опечатана и с работы мать уволена.
Выйдя из больницы, мать оказалась буквально на улице, и пойти ей было некуда. Перебирая в уме адреса своих подруг и сослуживцев, она понимала, что всем им теперь не до нее, и уж коли о ней забыли, то лучше не засвечиваться и не напоминать о себе.
Она брела по улицам спасенного ею города на Васильевский остров, к дому, где мы жили до войны. Ноги сами привели ее туда.
Во время блокады мать жила в своем рабочем кабинете, а ее комната на Васильевском была за ней забронирована. Однажды матери донесли, что дом разбомбили. «Ну и бог с ним», — небрежно отмахнулась она.
И вот, идя куда глаза глядят, она добралась до этого дома, и вдруг — о чудо! — бомба, оказывается, угодила в соседний флигель, а ее дом стоял целым и невредимым.
Мать поднялась по лестнице и позвонила. Добрая половина жильцов квартиры благополучно пережила блокаду. Они узнали мать и обрадовались ей. Но вот незадача — в ее комнату управдом подселил Героя Советского Союза, который был оформлен в его жилконторе сантехником. Герой оказался дома и гостеприимно пригласил бывшую хозяйку к столу.
Моя любезная матушка на дух не выносила алкашей, но особо привередничать ей теперь не приходилось, и она скрепя сердце присела на краешек стула. Конечно, в былые времена ей ничего не стоило вышвырнуть с личной жилплощади любого героя, но теперь она и сама жила на птичьих правах, поэтому постаралась уладить конфликт полюбовно. Они удивительно быстро нашли общий язык, и Петька перешел жить в меньший отсек, а большую половину заняла мать.
Партийная карьера матери в одночасье потерпела полное крушение, но документы ее были в порядке, и она быстро столковалась с управдомом и затаилась в своей норе до лучших времен.
И тут мать внезапно вспомнила обо мне и приняла активные меры для моего розыска. Почему-то я убеждена, что, если бы ее карьера не потерпела полного краха, она не стала бы так яростно меня разыскивать. Их партийное сознание было отлично вышколено и четко служило их нуждам, оно вполне искренне умело и забывать, и помнить. В свое время она сделала попытку найти меня, навела справки и даже, как однажды проболталась, имела точные сведения о моем образе жизни (наверное, от Коли). Нет, она не забывала меня, совесть ее передо мной чиста, но она бы прекрасно обошлась в своей новой жизни и без меня. Кстати, точно таким образом она поступила в свое время и с моим отцом. Много лет спустя одна из ее драгоценных подруг проговорилась мне, что во время блокады отец несколько раз навещал мать. Он сидел тогда в Синявинских болотах, по пояс в воде, много пил, очень плохо себя чувствовал и был очень страшный и ревнивый. Он имел основания ревновать, потому что в то время у матери уже был роман с ее крупным партийным воротилой. Но этот факт она забыла настолько решительно, что, когда я однажды под горячую руку напомнила ей, возмущение ее не знало границ, и она так искренне кричала, будто ее опять оклеветали враги, что я совсем было поверила. Но один странный визит снова разбередил эту старую рану.
Ординарец отца пришел к нам через год после моего возвращения. Я плохо приживалась в новых для себя условиях, еще плохо соображала, поэтому мало что поняла и запомнила.
Ординарец доложил нам, что отец умер у него на руках. Шальная пуля угодила ему прямо в лоб. Отец не мучился. Но у меня создалось впечатление, что ординарец чего-то не договаривал. Он заученно твердил о храбрости отца, его мужестве и справедливости, но взгляд его ускользал от нас. В руках у него был длинный футляр для чертежей, его нервные пальцы бегали по трубе футляра. Он рассказал, что до войны хотел стать художником и учился в академии, но теперь рисует исключительно для себя и свои картины никому не показывает, потому что они страшные. В Синявинских болотах он по просьбе отца написал по фотокарточке наш портрет. И вот теперь он пришел, чтобы вручить его нам. Он нерешительно положил футляр на середину стола. Я нетерпеливо потянулась, чтобы немедленно вынуть и посмотреть, но взгляд матери остановил меня. Она сидела на стуле прямая и бледная, как на допросе.