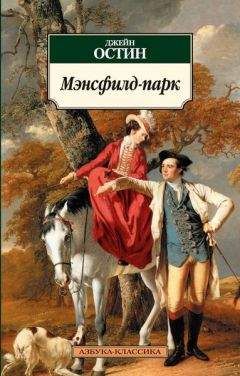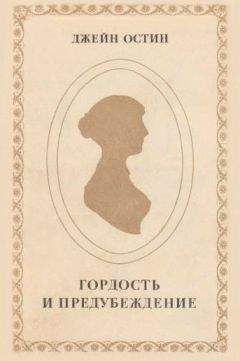Инга Петкевич - Плач по красной суке
— Это вы приходили в райком после его смерти? — безжизненным голосом спросила она.
Взгляд художника в смятении заметался по комнате, но мать властно пресекла замешательство.
— Вы передали мне письмо, — подсказала она.
— Я… — глухо согласился художник. Он хотел еще что-то добавить.
— А если бы письмо попало в чужие руки? — жестко оборвала мать. — Вы решили меня угробить?
— Кто? Я? — окончательно растерялся художник.
— Не знаю уж, кто из вас, — холодно отчеканила мать, — но это подлость!
Художник вскочил, краска залила его лицо и уши, он силился что-то сказать, но не мог… Потом вдруг затопал ногами, как припадочный, схватился руками за голову и опрометью бросился из комнаты.
Мать глядела ему вслед пустым, мертвым взглядом. Я же ничего не могла понять, я еще ничего не знала, но о многом уже догадывалась. Только что у меня на глазах мать проделала ошеломляющий партийный финт, когда из обвиняемой она в мгновение ока превратилась в обвинительницу, из жертвы — в палача, из преступницы — в праведницу. Этот дерзкий, хамский трюк которым они привыкли обезоруживать любого своего противника, бандитский метод взлома человеческих душ, — метод, который всю жизнь доводил меня до умоисступления; примитивный, грубый и преступный метод нагло отрицать очевидное, беззастенчиво лгать и передергивать, безнаказанно травить невинных людей, сводить их с ума; метод, перед которым пасовали умные и глупые, сильные и слабые. Пасовали, потому что против лома нет приема. Спасовал и бедный художник.
Я тогда еще не знала степени ее вины перед отцом, но краска стыда, внезапно окрасившая уши художника, была именно за мать — этот факт для меня очевиден. Мы долго сидели возле стола и молча глядели на футляр. Я видела, что мать взволнованна, и то, что она, по своему обыкновению, не беснуется, не кричит и не ругается, озадачивало меня. Я глядела на нее, но она меня не замечала, мысли ее витали где-то далеко. Наконец она нерешительно протянула руку к футляру, потом быстро взглянула на меня. «Можешь посмотреть», — отрывисто разрешила она, встала и пошла к дверям. Но на пороге остановилась в замешательстве, оглянулась, снова вернулась, решительно взяла футляр, открыла его, развернула пожелтевшую газету военных лет, вынула большой лист ватмана, разглядывать не стала, а лишь потрясла над столом, в поисках записки, что ли. На стол выпала фотография, мать мельком взглянула и занялась футляром, она постучала им об стол и даже заглянула внутрь, но там больше ничего не было, и она ушла из дома, заметно успокоенная.
Целый вечер я просидела, разглядывая этот подарок с того света, и впервые отец приблизился ко мне, и между нами возник странный контакт, который бывает только между родственниками — то есть людьми одной крови. В таких контактах есть особая близость, потому что в общение вступают свойства души, которые никаким иным путем, кроме наследного, не могли в твоей душе появиться. Мятежный дух отца приблизился ко мне, и я поняла, какие именно качества моего характера я получила от него в наследство, а не приобрела на моем тернистом жизненном пути. Это была спесь, гордячество, правдолюбие, непримиримость… и обреченность.
На фотокарточке мы были запечатлены все вместе на фоне грубо намалеванного черноморского пейзажа с театральной морской далью, в которой парила бутафорская чайка.
Мать плотно сидела на венском стуле с толстым гуттаперчевым пупсом на коленях и улыбалась объективу своим ослепительным партийным оскалом. Меня всегда озадачивали эти лучезарные дежурные улыбки. В самые опасные предвоенные годы, балансируя на острие ножа над пропастью, куда только что сверзлись их родные и близкие, они щедро расточали свои беспечные ослепительные улыбки. В постоянном страхе, смятении, на кратере действующего вулкана они были обязаны улыбаться.
Отец стоял чуть поодаль, особняком. Он был в полной военной форме, в кителе и галифе. Одной рукой он опирался о длинную деревянную колонку, другой держал фуражку. Его гладко выбритая, безупречно круглая голова будто чуть светилась на фоне искусственного неба. Это живое сияние вокруг бильярдной круглости словно намекало на его мученический конец. Он отрешенно глядел поверх объектива, но его надменное, мятежное и спесивое лицо поражало своей социальной уязвимостью и обреченностью.
Пальма в кадке, как взрыв, торчала между отцом и матерью. Господи, почему в России всегда любили пальмы?!
На картине, на манер Дейнеки, была изображена увесистая фашистская матрона, накачанная плотоядным жизнелюбием, агрессивным оптимизмом и хамской эротикой, беззастенчивая, разнузданная шлюха, вожделенная мечта тюремщиков и палачей, она была прекрасна в своем дьявольском цинизме, как звероподобный сфинкс, как злой гений… Сквозь этот зловещий лик кое-где проступали материнские черты, но в целом это была не она, не было в матушке такой первобытной силы и неуязвимости, а может быть, она не оборачивалась ко мне подобным лицом. Да и что мы знаем об интимной жизни своих родителей? В нас пихают пережеванные версии, и мы глотаем банальную кашу, потому что подлинные, натуральные продукты нам пока еще не по зубам. Поэтому мы всегда повторяем ошибки отцов.
Матери портрет приглянулся, она ничего не смыслила в живописи. Красота женщины на портрете льстила ее самолюбию, и она с удовольствием повесила бы портрет на стенку, если бы не ханжеская осторожность. Зачем лишний раз привлекать внимание соседей и подруг, зачем вспоминать старое…
Вместо меня на коленях у матери покоился розовый жирный поросенок, она брезгливым жестом отстраняла его от своего тела. Эта аллегорическая подмена показалась мне тогда особенно знаменательной и надолго, может быть навсегда, запала мне в душу.
Отца на портрете не было. Очевидно, это была его воля. И только взрыв пальмы в кадке намекал на его присутствие. Да еще в небе вместо чайки парил тяжелый бомбовоз, роняя из пуза фугасные конфетки.
Мать вернулась после двенадцати, слегка навеселе. Я стала расспрашивать ее об отце. Она заученным голосом отвечала мне, что отец был человек кристальной честности и благородства, его все очень любили и уважали. Она машинально наделяла отца всеми положенными добродетелями и то ли не умела сказать правды, то ли по привычке боялась проговориться. Единственное, что мне удалось извлечь конкретного, — на фотографии он только что вернулся с финской кампании, поэтому был такой невеселый. И я вдруг ясно вспомнила, что до войны отец редко бывал дома, а при его появлении все ходили на цыпочках, и мне строго запрещалось шуметь, отчего у меня осталось впечатление, что в дни своих побывок отец обычно спал. Я вспомнила фронтовой запах отцовской шинели, его колючее от щетины лицо…