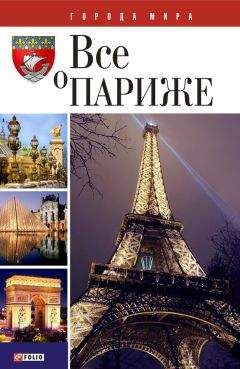Джонатан Франзен - Безгрешность
Анабел села и оправилась, точно кошка после неуклюжего прыжка.
– Ты иди сейчас, – сказала она.
– Конечно.
– Не могу тебя сразу впустить. Ты-то в состоянии прямо от Люси ко мне, как ни в чем не бывало, но я такой навык утратила.
– Я бы не сказал, что у меня есть навык.
Она серьезно кивнула.
– Я хочу в чем-то признаться и о чем-то тебя спросить, – сказала она. – Тебе следует знать, что Люси мне кое-что о тебе сообщила. Мне хотелось заорать на нее, чтобы она заткнулась, но она сказала мне, что ты девственник.
Как ненавистно мне было это слово! Устарелое, непристойное – и точное.
– Так вот, слушай мое признание: это имеет для меня значение. Потому-то я и ждала тебя на углу. В смысле я не просто потому ждала, что хотела тебя видеть. Была еще мысль, что ты, может быть, тот человек, с кем я смогу начать сначала. Ты сам-то понимаешь, до чего ты чист?
В трусах у меня было липко от того, что потихоньку сочилось час за часом, но Анабел была права: мы с моим членом едва разговаривали. Липкость, как и сам член, была мужским затруднением и, казалось, имела мало общего с нежностью, которую я ощущал.
– Но вопрос мой не в этом, – сказала она. – Он вот в чем: что Люси сообщила тебе про меня?
– Она сказала мне… – я тщательно выбирал слова, – …что у тебя были неприятности в школе и что у тебя давно уже нет бойфренда.
Анабел негромко вскрикнула.
– Боже мой, как я ее ненавижу! Почему, ну почему я продолжала с ней дружить?
– Мне дела нет до того, что у тебя было в Чоут. А с ней я не буду больше про тебя говорить.
– Ненавижу! Она сточная канава без решетки. Ей надо все стащить вниз, на свой уровень. Я ее хорошо знаю. И я точно знаю, что она тебе сказала. – Анабел зажмурила глаза, выдавливая слезы, окрашенные тушью. – Иди теперь, ладно? Мне надо побыть у себя.
– Я пойду, но я не понимаю.
– Я хочу, чтобы у нас было иначе. Как ни у кого другого. – Она открыла глаза и кротко улыбнулась мне. – Не хочешь – ничего страшного. Ты просто очень хороший мальчик, уроженец Денвера. И я не обижусь, если ты поймешь, что тебе этого не надо.
Возможно, средства сообщения между мной и моим членом не были так уж безнадежно плохи, ибо я ответил тем, что прижал ее лицо к своему, прильнул воспаленными губами к ее распухшим губам. Я не могу отделаться от мысли, что, если бы мы поступили тогда как нормальные люди и прямо там, на полу, совокупились, наша совместная жизнь могла бы потом сложиться счастливо. Но в ту минуту все было против этого: моя неопытность, моя подозрительность в отношении своих собственных мотивов, странные понятия Анабел о чистоте и безгрешности, ее желание остаться одной, мое нежелание ей повредить. Мы разъединились, тяжело дыша, и пристально посмотрели друг на друга.
– Я хочу, мне надо, – сказал я.
– Не делай мне больно.
– Не сделаю.
Вернувшись в кампус, я проспал все утро и едва успел в столовую. Там увидел Освальда за столом, который мы предпочитали; он встретил меня заголовками:
– “Аберант – другу: потусуйся за нас двоих”.
– Извини, что бросил тебя.
– “Аберант виновато ссылается на секретное совещание у Лэрдов”.
Я засмеялся и сказал:
– “Хакетт признан виновным в злобных нападках на Лэрд”.
Освальд захлопал глазами.
– Ты на меня возлагаешь ответственность?
– Уже нет.
– Вчера мясницкая бумага в ход пускалась? Признайся.
С понедельничным номером газеты дел было немного: мы имели в распоряжении весь уикенд. Во второй половине дня, когда мы отдали номер в печать, я смог позвонить Анабел. Она спала до трех, и новостей у нее не накопилось, но любовное томление делает самые ничтожные мысли и дела достойными упоминания. Мы проговорили час, а затем стали обсуждать, не встретиться ли сегодня, потому что дальше у меня не будет свободного вечера до пятницы.
– Начинается, – сказала она.
– Что начинается?
– Твои важные дела, мое ожидание. Не хочу быть ожидающей стороной.
– Я точно так же буду ждать до вечера пятницы.
– Ты будешь занят, я буду ждать.
– А тебе разве нечем заняться?
– Есть чем, но сегодня мой единственный шанс заставить тебя ждать. Я хочу, чтобы ты испытал малюсенькую чуточку того, что мне предстоит.
Если бы подобная логика исходила от кого-нибудь еще, я, скорее всего, почувствовал бы раздражение, но мне тоже хотелось, чтобы у нас было как ни у кого другого. Семантическое, в сущности, расхождение продлило наш разговор еще на полчаса, но это меня не смутило. Для меня это было движение в глубь ее неповторимости, которая вскоре станет нашей общей неповторимостью. И это был ее голос в трубке.
Когда мы наконец достигли компромисса, согласившись увидеться в деловом центре города – оттуда, думалось мне, я провожу ее домой и на сей раз, может быть, буду допущен в ее спальню, получу позволение дотронуться до ее самых заряженных мест, а может быть даже, мне будет даровано все, чего я желаю, если она желает того же и так же сильно, – я быстро поужинал и пошел к себе в комнату, чтобы потратить час на чтение Гегеля. Едва я сел, как позвонила моя сестра Синтия.
– Клелия в больнице, – сказала она. – Ее положили вчера вечером около полуночи.
Я был так полон Анабел, что моя первая мысль была такая: около полуночи мы в первый раз поцеловались. Словно моя мать каким-то образом узнала. Синтия объяснила мне, что она четыре часа провела в уборной с растущей температурой, не в силах выйти. В итоге она все-таки смогла позвонить доктору ван Шиллингерхауту, своему гастроэнтерологу, врачу до того старой школы, что он посещал пациентов на дому, и до того неравнодушному к моей матери, что сорвался с места в одиннадцать вечера в субботу. Он диагностировал не только острое воспаление кишечника, но и сильнейший нервный срыв: мать говорила без умолку, горячечно защищая Арне Хоулкома от какого-то обвинения, суть которого не разъясняла.
– Я только что говорила по телефону с руководителем избирательной кампании, – сказала Синтия. – Судя по всему, Арне непристойно обнажился перед сотрудницей.
– О господи, – сказал я.
– Они пытались скрыть это от Клелии, но кто-то ей сообщил. С ней случилось какое-то помешательство. Сутки спустя она сидит в уборной и не может выйти, чтобы позвать кого-нибудь.
Синтия надеялась, что я смогу прилететь в Денвер. В пятницу ей предстояло важное голосование о создании профсоюза, а Эллен по-прежнему была зла на мою мать из-за какого-то замечания, которое та сделала насчет музыкантов, играющих на банджо (позиция Эллен тогда и позже была неизменна: “Она относится ко мне погано, и она мне мачеха, а не мать”). Синтия никогда полностью не переставала пусть и по-дружески, но сомневаться в моих моральных качествах, и, видимо, она уже опасалась (небезосновательно), что ей в конце концов придется взять на себя неотложную эмоциональную помощь мачехе. Я согласился позвонить в больницу.