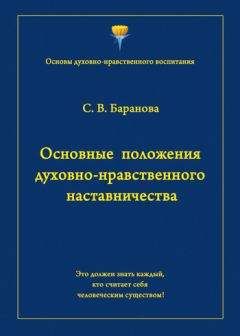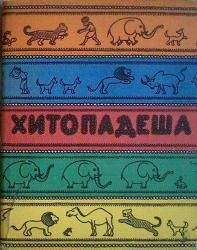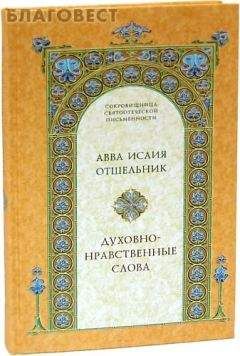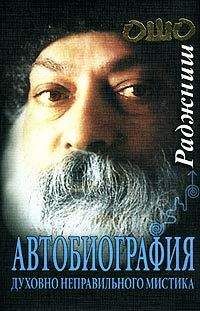Николай Хохлов - Право на совесть
Голос англичанина замолк. Стал говорить представитель НТС, друг Околовича. Он пытался показать, что разбирает обстановку методично и объективно, но в середине фраз часто останавливался, напряженно вглядываясь в оконную решетку. Говорил он с трудом, медленно, как бы сам прислушиваясь к своим доводам. Он считал, что долго скрывать секрет моего появления на Западе вряд ли удастся. Совсем ничего не опубликовать — нельзя. Это покажется Москве необычным. Как бы мы ни инсценировали провал операции, в прессу должно что-нибудь попасть. И, конечно, шаг за шагом, мелочь за мелочью МВД доберется, если не до всей правды, то хотя бы до основного: того, что я сотрудничаю с Западом. Такие вещи ведь в практике трудно полностью замаскировать. Тогда, во-первых, МВД начнет вытягивать из моей семьи всякие «признания» и «показания». Во-вторых, моя семья попадет, в конце концов, в какой-то лагерь, где подобно миллионам других заключенных погибнет от голода и непосильной работы. А если я выступлю и расскажу открыто о причинах моего прихода на Запад, то в дело включится мировое общественное мнение. С этим мнением советское правительство считается больше, чем может показаться с первого взгляда. Моя семья сразу станет ценной для МВД. Мало ли какой оборот может принять дело. Вдруг будет широкое обсуждение в прессе, появятся статьи, может выйдет даже книга какая-нибудь об этом. МВД придется организовывать контрудар. Именно так все произошло с Кравченко и его жена была привезена, жива-здорова, в Париж. Если я стану известен всему миру, как антикоммунист, то МВД будет прямо заинтересовано в сохранности моей семьи. Мои родственники становятся заложниками. И уж в захудалый лагерь их не пошлют. Другими словами, шансы, что они выживут — повышаются. Хотя бы это мы выиграем. Не говоря о колоссальном ударе, который можно нанести советской разведке и престижу коммунистической власти. Ведь, вот, они не стесняются похищать наших людей или убивать их. Борьба идет непримиримая. Что ж можно поделать? У него самого родственники погибли в советском концлагере. Нужно как-то отвечать. В этом месте включился американец:
— Да, да!! — почти воскликнул он. — Ударом на удар! Обязательно. Вы же сами воевали. Вы понимаете… Ударять нужно сейчас. Пока они не ждут этого. Иначе может быть поздно потом. Все и так висит на волоске. Мы должны опередить их!..
Он осекся и отпил глоток воды. Все смотрели на Околовича.
— Мнение Георгия Сергеевича мне известно, — сказал я. — И вообще… Все теперь совершенно ясно…
Нужно было, конечно, сразу сказать им, что я думаю об их доводах. Но на душе у меня была невероятная ледяная тяжесть. Мне даже не хватало дыхания, чтобы говорить громко. И, прежде чем сказать что-то четкое и окончательное, я пытался снять эту тяжесть, размышляя вслух:
— Сегодня четверг вашей католической Страстной недели… я увидел это в газетах… Странное совпадение. Какие разные все же бывают на свете люди… Вы даже не понимаете, кем решили жертвовать… Я не говорил еще о роли Яны во всем деле. Она не захотела бы этого, наверное. Но теперь лучше сказать… Вот, для нее четверг Страстной недели — Моление о Чаше. Может быть она даже чувствовала, что так все случится… Ведь именно она сказала мне, что убийство должно быть остановлено. Именно она. И не просто сказала. А так: если я попытаюсь остаться в стороне, то она моей женой больше не будет. И для сына такого отца не хочет. Да… Моление о Чаше. Но в том же Четверге есть и Петр и потом другой, еще хуже… Конечно, всегда появляются какие-то доводы… Логические рассуждения… Полотенца для вытирания умытых рук…
Наступила пауза на какую-то долю секунды и Околович сказал:
— Я очень боялся, что может придти такой день, когда Николай Евгеньевич пожалеет, что не позволил убить меня. Может быть, этот день и есть сегодня…
Я отрицательно качнул головой:
— Нет… Жалеть о том, что сорвал убийство, я не могу. Дело было не в вашей жизни, а в нашей: Яны, Алюшки, моей. Я же говорю, что она открыла мне глаза на то, что важно по-настоящему, а что — нет. Если уж жалеть, то о другом. Может быть, о том, что пришел к вам. И поверил, что все, действительно, делалось во имя их спасения… А теперь вот, три раза, один за другим, вы все отреклись от этого…
Теперь американец заговорил нервно и быстро:
— Именно потому… Именно потому, что ваша жена — героиня, она поймет из-за чего все совершается. Мы должны бороться, а не давать им нас шантажировать такими вещами, как семья, любовь, долг. Ваша жена это понимала и говорила вам, что нельзя сдаваться. Мы не имеем права думать, что она слабая, что она не выдержит. Или осудит нас. Если бы она была здесь, она тоже сказала бы, что вам нужно выступить…
— Да, но ее здесь нет, — прервал я американца. — И я, может быть, зря заговорил о ней. Ведь если было бы, что обсуждать. А то обсуждать-то нечего…
Ледяная тяжесть на моей душе почему-то ослабла. Я подошел к окну. Сквозь завитки железной решетки доносился шелест дождя… Не оборачиваясь, я заговорил, неожиданно для себя очень твердо:
— Вот, что я вам скажу: забудьте, что я пришел добровольно. Этого не было.
Я повернулся к ним лицом и повторил по слогам:
— Понимаете: НЕ-БЫ-ЛО. И никто из вас не сможет доказать противного. У вас нет ни клочка бумаги, подписанного мной. Арестовывайте меня и… хотя я и так арестован… Ну, все равно: передавайте меня немецким властям и пусть они меня судят. Ничего общего с вами я больше иметь не хочу. И с удовольствием сяду в тюрьму. Тогда, хоть — законную.
Поднялся шум. Все заговорили одновременно. Голос американца перекрыл остальные:
— А немцы? Ваши агенты. Они же знают, что вы перешли. Мы тогда обязаны их тоже передать властям. Что они скажут на следствии?
— Ничего они не знают. Вы привели меня на квартиру и я сказал, что мне было приказано. Видел я только Франца и всего несколько секунд. Лгать они не обязаны. Только кое-что подзабыть.
Вмешался представитель НТС:
— Немецкие следователи очень дотошные люди: они все равно поймут, что мы говорим им неправду. И все дело окончательно запутается.
Англичанин убеждал:
— Вы же не можете обманывать суд. Показания даются под присягой. Что, например, скажет господин Околович?
— А я на такой суд, где Николая Евгеньевича будут судить за попытку убийства, просто не пойду, — сказал Околович. — Актер я плохой. Но можно, наверное, обойтись и без меня.
— Ну, вот, видите, — подхватил американец. — Главного свидетеля и не будет. Еще одно подозрение для прессы. Мы хорошо понимаем ваши чувства, но надо смотреть на вещи трезво. Если мы передадим вас немецким властям, то секрет вашего прихода все равно откроется.
— Ну, не знаю, — пожал я плечами. Всяких трудностей можно надумать. Но если даже с судом, действительно, так сложно, то сделайте что-нибудь другое. Все равно, что… Но так, чтобы я вышел из игры. Инсценируйте захват моей группы где-нибудь. Хотя бы во дворе у Околовича. Пусть капитана Егорова убьют. Я смогу перейти на какие-либо другие документы. НТС обещал мне помочь в этом.
— А труп? — почти взмолился американец. — Где достать труп?! Вы шутите?! Мы же не в джунглях живем, а в цивилизованном обществе. Знаете, в мировую войну английская разведка сбросила в море мертвеца с фальшивыми таблицами шифров при нем. Так пока они достали труп, то буквально с ног сбились. И это во время войны, когда разведкам все разрешается. Мы же обязаны предъявить вас мертвого полиции. Нет, это совершенно невозможно.
— Все равно… Вы меня не переубедите. Ни к кому я не приходил и вообще ничего не знаю. Конечно, — вы можете опубликовать все и без меня. Практически я не могу вас остановить. Но я еще раз предупреждаю, — что буду все отрицать. Так что единственная возможность избежать крупного скандала — это передать меня властям, судить и сажать. А всякие детали уж обдумывайте сами. Кто, что будет говорить и как быть с присягой. Мне совершенно все равно. И вообще… Говорить нам, пожалуй, совсем больше не о чем…
Они притихли. Их лиц я не видел. Оборачиваться мне было нельзя. Я чувствовал, что сил мне уже начинает не хватать. Все та же мысль не оставляла меня: Яна и Алюшка гибнут. Значит, выход может быть только один… Сзади меня, в комнате, люди о чем-то совещались в полголоса. Завитки железной решетки дрожали на фоне дождевой мороси. Я слышал, что со мной прощаются. Потом щелкнула дверь. Значит — ушли. Я пошел было к двери, чтобы повернуть ключ, но на лестнице послышались быстрые шаги. Кто-то возвращался бегом. Это был американец. Он почти ворвался в комнату. Я отступил даже назад. Американец застыл на пороге. Подбородок его дрожал. Он заговорил, с трудом владея собой:
— Ник… Послушай… друг… Мы не такие… Ты не думай… Мы, правда, не такие… Ничего не будем делать без тебя… Честное слово… Ничего не будем… Ты только поверь…