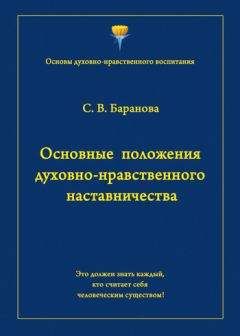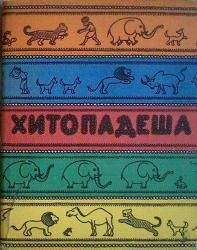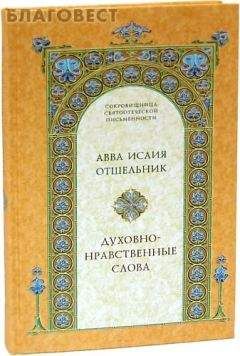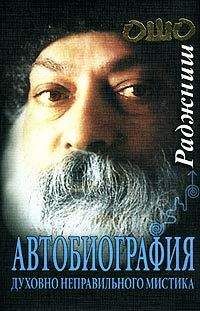Николай Хохлов - Право на совесть
Вернувшись во Франкфурт я нашел на почте письмо из Вены. Мне сообщалось, что группа моя в опасности и я должен немедленно уходить. Причем приказ требовал именно моего ухода, обрывая связь с Францем и Феликсом и бросая их на произвол судьбы. Очевидно, Москва считала, что показания Л. привели западную разведку сначала к обоим агентам, которые, вероятно, уже попали под наблюдение и уйти не смогут. Москва надеялась, что хоть я успею еще выскользнуть из кольца. По тону письма было видно, что лично мне Москва полностью верит. Я понял, что пришло время для «капитана Егорова». Для Москвы пока я исчезал и погружался в неизвестность до той поры, пока не была бы разработана подходящая версия об обстоятельствах моего появления на Западе. С этой версией нужно было спешить. Я попросил американцев созвать срочное совещание представителей НТС, английских и американских властей, чтобы решить, что делать дальше с капитаном Егоровым и его группой. Билл доложил начальству мою просьбу. 14-го апреля ко мне в охотничий домик действительно приехали представители НТС и в их числе Околович, связные от английской разведки и несколько американских офицеров. Однако, приехали они совсем по другому вопросу и завели разговор о совершенно неожиданных для меня вещах.
Мне рассказали, что накануне был похищен и вывезен в советскую зону доктор А.Р.Трушнович — член НТС, председатель Комитета помощи русским беженцам. Он в течение многих лет руководил форпостом революционного штаба, работавшего в самом центре восточной зоны Германии — в Западном Берлине. Я просмотрел газетные сообщения. Отдельные детали похищения подсказывали мне, что это было то самое «второе дело», которое Берия поручил службам советской разведки, летом 1953 года. Мне было ясно, что похищение было проведено агентами 1-го Управления МВД с помощью немецкой службы госбезопасности. По всей видимости, оказавшись оттесненными от операции «Рейн», люди Федотова решили форсировать второе «государственное задание». Я высказал свое мнение. Оно упало как бы в пустоту. Все молчали. Околович стоял у окна, спиной ко мне, и смотрел на моросивший дождь. Другой представитель НТС, сидя за столом, чертил машинально и нервно какие-то линии на листе бумаги. Англичанин изучал рисунок ковра, сгорбившись, как будто ему было холодно. Один из американцев был где-то за моей спиной, — безмолвный и неподвижный. Лишь подполковник американской разведки посмотрел мне прямо в лицо и четко сказал:
— Видите, что они делают… Мы не можем больше молчать. Нужно ответить ударом на удар. Мы просим вас выступить перед прессой и рассказать все.
Его слова прозвучали для меня громом с ясного неба. Я даже не понял его сразу:
— Выступить? Перед прессой? Зачем?
Голос американца звучал по-прежнему твердо:
— Мы сделаем пресс-конференцию для вас. Вы расскажете о своем приходе на Запад и о плане убийства господина Околовича. Мы должны это сделать и показать всему миру, кто они такие. Я прервал его:
— Вы понимаете, что вы говорите? Моя же семья погибнет тогда.
Англичанин выпалил вдруг громко и нервно, не отрывая глаз от пола:
— Да, они могут погибнуть, — он говорил эти слова с каким-то отчаянным задором, как бы стараясь сразу покончить с тем, что было самым тяжелым во всей истории. Его иностранный акцент стал особенно слышным. — Они, очень вероятно, могут погибнуть… И мы это знаем… Но иначе ничего нельзя сделать. Спасти их мы не можем. Мы не хотим вам лгать. Спасти их не можем…
Он остановился так же внезапно, как и заговорил. Глаза его остались прикованными к ковру.
Я вдруг увидел себя со стороны, понял, что мой взгляд бродит недоумевающе с одного из них на другого, и услышал свои полусвязные негромкие фразы:
— …Но это невозможно… Вы же… Вы же обещали ни в коем случае… Я пришел к вам только потому… что…
Внезапно я оборвал себя и заставил собрать все силы. Ни в коем случае не показывать себя слабым! Но и не взрываться тоже. Может быть, они не столько хотят уговорить меня, сколько получить предлог для самостоятельного разглашения всей истории. Я попытался заговорить твердо и спокойно:
— Вот, что, господа… Я вас оставлю на несколько минут.
Они все как бы встрепенулись. Околович обернулся ко мне. В его глазах было внимание и, как мне показалось, подбадривание.
— Мне необходимо сначала поговорить с Георгием Сергеевичем — продолжал я. — Лучше всего, если мы с ним спустимся вниз. Это дело касается прежде всего нас двоих.
Мне казалось, что надо бы еще что-то добавить, но я не мог решить — что именно. Околович взял меня за локоть и потянул к: двери:
— Пойдемте, Николай Евгеньевич. Они подождут нас здесь.
Никто из них не двинулся с места. Околович и я спустились в гостиную. Он молча ждал, пока я заговорю первым.
— Георгий Сергеевич!? Все внезапно сошли с ума или как?.. Что происходит? Неужели они серьезно?
Околович тряхнул головой, как бы отмахиваясь от моих сбивчивых вопросов, и заговорил с горечью:
— Вы не соединяйте меня в одно с ними. Я здесь не хозяин. Вы это знаете. Мой друг и я представляем здесь НТС. И это все. Но даже от имени НТС я не мог бы вам сказать ничего окончательного. Похищение доктора очень сильно ударило по нас. Нам всем он был почти как брат. Конечно, мы находимся сейчас во власти эмоций и вы это должны понять. Но никаких решений навязывать вам мы не собираемся. Мы и сами еще не успели ничего решить. И не могли бы сейчас. Состояние наше, честно говоря, не очень вменяемое. Конечно, кое-кто из нас думает, что, если нанести зверю чувствительный удар, то он, может быть, и выпустит жертву. Но я, лично, среди этих мнений и планов только второстепенное действующее лицо. Подождите секунду… То, что вы хотите от меня узнать, я вам скажу… Но только, как человек человеку… Да… Так, вот… Будь я на вашем месте, я на выступление перед прессой не пошел бы. Не пошел бы и все. А там уж, как знаете… Повторяю, — официальных советов я вам дать не могу…
Я поднялся с дивана:
— А больше мне ничего не надо. Никаких официальных советов я и не хочу. Пойдемте к ним обратно.
Околович отстал от меня на несколько ступенек. Подождав, пока он тоже пришел в комнату, я заговорил, стараясь контролировать каждое слово:
— Так что ж… Я вам пока ничего не могу ответить. Ваша просьба кажется мне настолько нелогичной и… даже не знаю, как ее квалифицировать. Сейчас, когда у вас есть еще возможности разыграть Москву самыми разнообразными путями… И есть «А», который перешел на вашу сторону. Я был совершенно уверен, что смогу остаться полностью в стороне от какой-либо публикации… Мне очень важно знать, что именно заставило вас так резко и внезапно переменить позиции. Я прошу каждого объяснить свою точку зрения, чтобы разобраться немного в том, что происходит.
Они не протестовали, но и не начинали говорить. Я взглянул вопросительно на англичанина: — «Может быть, вы?». — Его речь опять зазвучала нервно и русский язык был совсем плох. Он говорил путанно и малопонятно о том, что времени ждать больше нет, что семью спасти нельзя, но нужно оправдать их жертву хотя бы тем, что правда станет известной всему миру. Потом добавлял еще что-то о судьбе, с которой нельзя бороться, о цепи неудач и ошибок, случившихся в моем деле с самого качала, и о том, что на войне, как на войне — жертв не избежать. Его слова летели куда-то мимо меня. У меня была только одна ясная мысль в голове: «пусть выскажутся. Пусть говорят. Все, один за другим. Не важно, что… Но пусть все скажут это вслух».
Голос англичанина замолк. Стал говорить представитель НТС, друг Околовича. Он пытался показать, что разбирает обстановку методично и объективно, но в середине фраз часто останавливался, напряженно вглядываясь в оконную решетку. Говорил он с трудом, медленно, как бы сам прислушиваясь к своим доводам. Он считал, что долго скрывать секрет моего появления на Западе вряд ли удастся. Совсем ничего не опубликовать — нельзя. Это покажется Москве необычным. Как бы мы ни инсценировали провал операции, в прессу должно что-нибудь попасть. И, конечно, шаг за шагом, мелочь за мелочью МВД доберется, если не до всей правды, то хотя бы до основного: того, что я сотрудничаю с Западом. Такие вещи ведь в практике трудно полностью замаскировать. Тогда, во-первых, МВД начнет вытягивать из моей семьи всякие «признания» и «показания». Во-вторых, моя семья попадет, в конце концов, в какой-то лагерь, где подобно миллионам других заключенных погибнет от голода и непосильной работы. А если я выступлю и расскажу открыто о причинах моего прихода на Запад, то в дело включится мировое общественное мнение. С этим мнением советское правительство считается больше, чем может показаться с первого взгляда. Моя семья сразу станет ценной для МВД. Мало ли какой оборот может принять дело. Вдруг будет широкое обсуждение в прессе, появятся статьи, может выйдет даже книга какая-нибудь об этом. МВД придется организовывать контрудар. Именно так все произошло с Кравченко и его жена была привезена, жива-здорова, в Париж. Если я стану известен всему миру, как антикоммунист, то МВД будет прямо заинтересовано в сохранности моей семьи. Мои родственники становятся заложниками. И уж в захудалый лагерь их не пошлют. Другими словами, шансы, что они выживут — повышаются. Хотя бы это мы выиграем. Не говоря о колоссальном ударе, который можно нанести советской разведке и престижу коммунистической власти. Ведь, вот, они не стесняются похищать наших людей или убивать их. Борьба идет непримиримая. Что ж можно поделать? У него самого родственники погибли в советском концлагере. Нужно как-то отвечать. В этом месте включился американец: