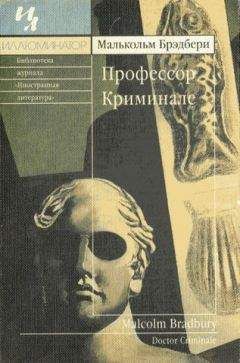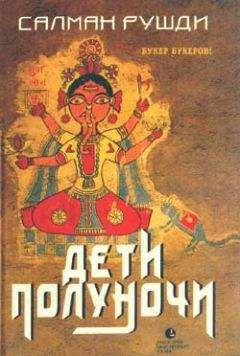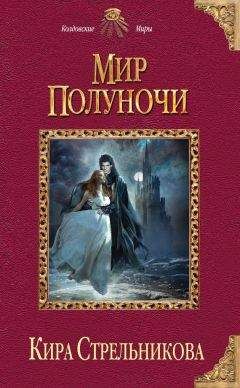Сергей Самсонов - Проводник электричества
— Не могут называться чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, — припомнил Камлаев.
— Смотри-ка, прочитал у Блока и даже, наверное, понял. Ну так и ты паши, не поднимая морды от отведенной тебе борозды. Так нет ведь, тебе хочется в гостиную. А кто ты есть? Бродячий трубадур, безродный капельмейстер с голым задом. Знай свое место — служи… Так вот, вы мне такое благородство приписали, что мне от страха перед таким собой теперь под койку хочется забиться. Я ж ведь над туркменской песней работал о Сталине и до пены кричал, пузырящимся ртом, по-щенячьи, взахлеб, упиваясь любовной дрожью, — Се! Се грядет Мессия! Не слыхал? Я был призван, был избран наконечником воли его, я ему литургию служил, я младенчески чист и безгрешен перед партией был, испытание видел в суде и тюрьме — окажусь ли способен без роптаний принять ее волю. Что, не веришь? Больше музыке веришь? Так ведь музыка вся та, какую я в народ проводил, только этим была — исполнять его волю верховную, позабыв о своей.
— Все это ясно, ясно мне как раз, — заторопился он, Камлаев, рассказать, что он тут не чужой давно, не проходящий мимо. — Сама возможность существования такой музыки, такого пребывания в звуке явилась откровением… не той, для императора… черт с ней… но той, которая у вас сейчас… мы ж вас, Урусова, покойником считали, который нам оставил в тридцатых пару мощных, прорывных вещей… ну, «Сталь» там, да, а дальше — все… ну, умер. И тут вдруг мой товарищ, Лева Брызгин, находит Stabat ваш конца шестидесятых. Я вчитался, исполнил — и меня переехало поездом. Вот оно! Там у вас происходит ведь что…
— У меня ровно то происходит и там, и везде, — оборвал его дед, — что и в песне о Сталине. «Высоко над страной реет наш алый стяг, слышит весь шар земной наш железный победный шаг» — что же это тебе не по нраву? Это вещи ведь одной природы. Одной, одной. Вы склонны думать как про времена империи — их, то есть нас, вот запугали, вы знаете про пытки, вы рассуждаете про слабость, животность человеческую, страх… иначе вам себе не объяснить, как сотни тысяч человек безропотно собой удобряли землю, признавали подброшенные в масло гвозди, вредительство, работу на аргентинскую разведку… как отдавали матерей, сестер, отцов, детей, предав даже вот это зверино-честное в себе, инстинкт родной крови. Но это нужно быть полнейшим, стоеросовым, двухсотпроцентным историческим кретином, чтоб не дать себе отчета в том, что эти смерти сделались реальностью лишь потому, что сами русские хотели быть убитыми и пытанными. Империя была сильна не наводимым страхом, не лютой повальностью расправ, а тем, что заставляла каждого — от Пушкина до смерда — переживать мистическое тождество неповторимых лиц и несопоставимых величин. Все были впаяны в единственный возможный мировой порядок, все были призваны, нужны и важны, задействованы в общем деле без остатка, все одинаково как единица ничего не стоили. «Поздравляю выдающейся симфонией. Примите мой дружеский привет и участие» — он мне вот это телеграммой передал, не мог он не услышать, недоучившийся семинарист, молитвенной природы «Стали», звучания народного единства в вере, но только в извращенной форме… дичок, привитый к русскому нутру, ублюдок христианства, плод изнасилования верящей души — вот что такое был советский миф… «не мир я вам принес, но меч»… знал, знал, каким народом правит, и выходил его главнейшей потребности навстречу: не благоденствия и сытости, не этой вот манящей и пугающей свободы хотел народ — ярма и кнута отведенного смысла, не мог не неволи, не голода, но этой раскаленной пустоты, вне Бога, выносить, не мог жить не нагруженным… оставь хотя бы на минуту русского наедине с собой и этой черной незаживающей пустотой внутри — вмиг станет белый свет не мил, упиться только и разбиться вдребезги, все на распыл пустить, спалить себя ко всем чертям со всей деревней. За что угодно схватиться… что первым вот ему подсунут, то он и примет за крещение, лишь бы преодолеть опустошающую узость личного, не встроенного в космос бытия. А тут ему такое — рай на земле, справедливость для всех навсегдашнюю. Вот гений дьявола — перенести идею воздаяния загробного в посюстороннюю реальность, пообещать вечное счастье… каков оксюморон, заметь… не наверху, на небесах, а впереди, навек. Что завтра будет житься человеку как-нибудь иначе, чем так, как есть, иначе, чем в поте лица, иначе, чем расположением дарованных способностей, набором совершенных подвигов по вертикали… внушить уверенность вот эту, что может быть подарено, обретено другое, чем то, что есть, — рождение, пахота, любовь и смерть… что у тебя должна быть жизнь вообще без горя… Вот, брат, нас как растлили, а не пытками. Но вам удобнее о свободе толковать. Какой вам надо-то еще свободы? Приживить сладострастно-инфернальное танго к протестантской кантате, чтоб все услышали, какая у тебя мятежная фантазия? Конечно, музыка-то не стоит на месте, у нее — прогресс.
3
— …Так в том и дело, — рука Камлаева готовно дернулась разлить остатки коньяка, добавить топлива — все прежнее старик уже спалил… — что Stabat ваш стоит на месте, вне прогресса, как что-то не подверженное изменениям, да. Перевернулось все, я будто протрезвел… это как вспомнить вкус колодезной воды, так заломило слух, давно привыкший к тому, что вся вода из крана с хлоркой, да, прошедшая систему очистных сооружений. У вас там слух другой. У девятнадцатого века, у нас он гармонический, все сводит в вертикаль аккорда… ну а у вас там, в Stabat, прорва самостоятельных линейных голосов, которые вы непонятным образом приводите к консонансному тождеству, и каждый в то же время свободным остается.
— Ты что, дурак? Ты неуч? Ты где учился вообще? Ты что, не читал гокета Машо, магнификатов раннего Средневековья? Ты понял принцип, получил модель, которая тебя так поразила своей близостью к реальности… ну так чего? Бери и пользуйся. В чем тут беда?
— Я не могу… по той простой причине… что это как бы не мое.
— Чего? — захохотал старик. — Не «мое»? В каком же это смысле не твое? Ну, ну… давай скажи… покайся, выдай истину — чему там так противится твое самолюбивое нутро. А воздух, которым ты дышишь, он твой? А хлеб, который ешь? Ты срать-то ходишь иногда? Так кто ж тебе сказал, что срать ты должен как-нибудь иначе, не так, как все? Не ты установил, не ты придумал, не ты основоположил — вот с этим ты не можешь примириться. Не хочешь брать чужого? А что же у тебя такого своего-то есть, а не по вышней милости? Хозяином себя не чувствуешь. А это голосоведение, которое ты у меня нашел, оно настолько же мое, насколько и твое. Хоть это понимаешь? И если брать в расчет оригинальность, как ты делаешь, то я не автор, не креатор — вор. В твоей системе мер и ценностей. Я именно что взял чужое, соединил свои кое-какие метки с григорианским cantus planus, который полностью, железно предопределил структуру того, что звучит… это именно и только воспроизведение чужого, не моего, не человеческого образца… «святый крепкий, святый безсмертный» — могу я тут хоть слово изменить, хоть тембр, хотя б штришок проставить по собственной воле? Кто я такой, чтоб тронуть хоть частицу?.. да я тем все нарушу… это небо качнется и скрепы будут вырваны, что держат от распада этот мир. Я могу позабыть, как это должно звучать правильно, потому что поколения назад скончался последний, кто помнил, как правильно. Но только надо повторять, как можешь… неточность, может, и простится нам… что взять с убогого? — мычит от сердца, чуя благодать… нам расхищение, извращение не простится. А ошибка простится. Что такое ошибка? Сам человек, быть может, лишь Его ошибка, не уследил, прости ты меня грешного, позволил помять человечью глину лукавому, свои яички в этой глине отложить, личинки дьявольского своеволия. Вон Котенька вчера рыдала — мальчишки во дворе собаку палками забили до смерти… а для чего? а для веселья, ничто не может нам такого удовольствия доставить, как своевольное глумление над естеством, над тем, как в Замысле, в природе… такая вдруг охота подмывает — вывернуть… вот то же самое творишь ты с безответной и беззащитной скотинкой-музыкой.
— Но стойте, стойте, погодите, — уперся он. — Разве любое новое, очередное, скажем так, придумывание музыки не есть по своей сути создание бесподобного, отличного? Иначе мы бы так и хлопали в ладоши у костра, тупым неукоснительным воспроизводством поддерживали примитивный ритм без всякой эволюции, раз в Промысле иного и не предусмотрено? Но люди все же несколько продвинулись.
— А отчего же так заботит тебя, братец, подобное ты производишь или бесподобное? Что есть цель, что есть средство? Зачем бить в ладоши? Чтоб изменить привычный натуральный строй? Чтоб проорать на всю округу: «Слыхали? Бесподобное! Мое! Я! я!»? Или в ладоши нужно бить, чтобы убить свой страх перед лесным зверьем, грозой, засухой, холодом? Ты думаешь, я почему тебя впустил, Варламович? Щенком ты все без спроса, без колебаний понимал, ты выбирать не мог, ты был лишен свободы воли, еще зверек, пока не человек. Я слышал, брат, как ты играешь Баха — по радио передавали многократно после «Зорьки». Каким же ты тогда пустым был — как вечная текучая вода, которой вот что нашептали, то и несет вниз по течению, и только.