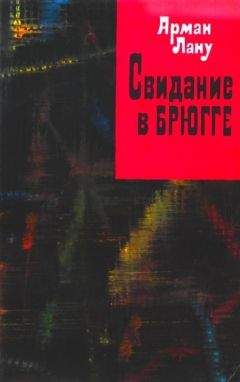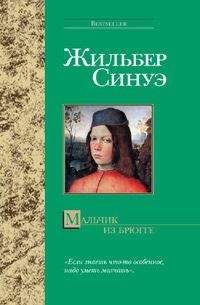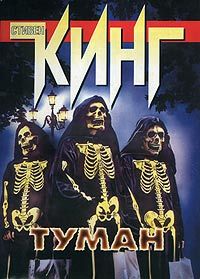Умберто Эко - Таинственное пламя царицы Лоаны
Я смотрел на них, я видел их ясно, но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему не подвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мысли, но по сравнению с которым приятность безделья, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется нестоящей» (М. Пруст, «Под сенью девушек в цвету», пер. с франц. Н. Любимова).
164
Засеикому тоже было далеко до Пруста. — Эко явно цитирует по Оливеру Саксу. См. у Сакса: «Такая теория родилась во время Второй мировой войны в России совместными усилиями А. Р. Лурии (и его отца, Р. А. Лурии), Леонтьева, Анохина, Бернштейна и других. Свою новую науку они назвали нейропсихологией. Развитие этой чрезвычайно плодотворной области было делом всей жизни А. Р. Лурии; принимая во внимание ее революционную природу, можно только сожалеть, что она проникала на Запад слишком медленно. Лурия изложил свой подход двумя разными способами — научно-систематически, в основополагающей работе „Высшие корковые функции человека“, и литературно-биографически, „патографически“, в книге „Потерянный и возвращенный мир“. Эти две книги — практически образец совершенства в своей области, и все же автор не коснулся в них целого направления неврологии: в первой описываются функции, связанные с деятельностью только левого полушария мозга; у героя второй, Засецкого, также наблюдаются обширные поражения мозговой ткани левого полушария, а правое остается незатронутым. В некотором смысле всю историю неврологии и нейропсихологии можно рассматривать как историю исследования лишь одной половины мозга». Также см. у того же Оливера Сакса: «Лурия писал о Засецком, что тот полностью разучился играть в игры, но сохранил способность живого — эмоционального — воображения. Засецкий и П. жили, конечно, в мирах-антиподах, однако самое печальное различие между ними в том, что, по словам Лурии, Засецкий „боролся за возвращение утраченных способностей с неукротимым упорством обреченного“, тогда как П. ни за что не боролся: он не понимал, что именно утратил, и вообще не осознавал утраты.
Засецкий для Эко — символ борьбы, безоглядной готовности сразиться с болезнью и победить ее.
165
…он себе обустроил новую бумажную память. — Неоднократно высказанная идея Эко о трех типах памяти, последняя из которых растительная или бумажная. Впервые прозвучала в устном докладе в Милане 23 ноября 1991 г.: «У нас имеется три типа памяти. Первая — „органическая“, то есть запечатленная в плоти и крови и управляемая мозгом. Вторая — „минеральная“, причем у человечества есть две разновидности „минеральной“ памяти: тысячи лет назад эта память воплощалась в глиняных табличках и обелисках, — на них люди вырезали текст. Впрочем, к тому же типу памяти относится и электронная память современных компьютеров, запечатленная в силиконе. Есть и третий тип памяти, „растительная“, представленная древними папирусами, которые тоже прекрасно известны в этой стране, а впоследствии книгами, напечатанными на бумаге» (пересказано на с. 15–17 издания: Eco U. La memoria vegetale е altri scritti di bibliofllia. Milano: Ed. Rovello, 2006).
166
Сезам, откройся, я хочу отсюда выйти. — Афоризм Станислава Ежи Леца (1906–1966). Эко цитирует Леца и в «Маятнике Фуко», и в книге эссе «О литературе» (2002).
167
…В крови, пыланьем мажущей щеки, Смеется космос… — Из стихотворения «Отроковица» Винченцо Кардарелли, многократно процитированного в главе 3.
168
Вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. — Концовка «Процесса» (1918) Ф. Кафки, пер. с нем. Р. Райт-Ковалевой.
169
Когда мы доехали до Римского вокзала… — Д'Аннунцио, «Триумф смерти» («Il trionfo della morte», 1894).
170
Рыбка рыбка камбала… — Из померанской сказки «Рыбак и его жена», включенной в сборник братьев Гримм; отсюда почерпнут сюжет сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
171
Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени? — Из повести «Сильвия» (1854) Жерара де Нерваля (1805–1855), пер. с франц. Э. Линецкой. Для Эко это одна из величайших когда-либо написанных книг. В сборнике его лекций «Шесть прогулок в литературных лесах» (1994) Сильвии уделяется большое место: «Хотя я знаю „Сильвию“ во всех ее анатомических подробностях, — возможно, потому, что я знаю ее так хорошо, — всякий раз, снимая ее с полки, я заново влюбляюсь в нее, словно читаю впервые».
172
Бумажная память. — Как мы помним по объяснению к предыдущей главе, «бумажная» (или «растительная») память — это базовый термин в обиходе Эко, третий тип выделяемой им памяти наряду с органической и минеральной.
173
…к той истинной Соларе, которая лепилась на довольно крутом горном склоне. — Описание поместья перекликается с описанием родных мест героя «Маятника Фуко» Якопо Бельбо (в частности с пейзажем и с архитектурой дома из главы 55). В «Маятнике» герой переживает схожий опыт военных лет. Как и Ямбо, Якопо часто называет родные места «Комбре», вспоминая Пруста.
174
Эти желтые персики, которые растут только между лозами… — Из финальной, 120-й главы «Маятника Фуко».
175
Silly season — мертвый сезон, нет новостей. Он читал, покойно сидя над собственной парною вонью. — Джеймс Джойс (1882–1941), «Улисс» (1922).
176
Борромини. — Имеется в виду улиткообразная круговая лестница, построенная архитектором эпохи барокко Франческо Борромини (1599–1667) в римском Палаццо Барберини.
177
Люди состоятельные тужат… — Имеется в виду Марсель Пруст: страдая тяжелой астмой, он вынужден был в зрелые годы большую часть жизни проводить в комнате, обитой пробковыми панелями, — там и создавался многотомный роман «В поисках утраченного времени».