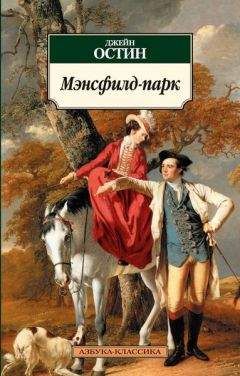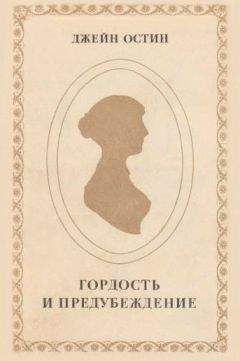Инга Петкевич - Плач по красной суке
Он единственный никогда не делал коммунальных уборок, не выносил помойного ведра, не платил за общественную электроэнергию и даже не боялся напачкать в уборной. А когда Липка однажды после него шмыгнула в сортир, чтобы проверить, он запер ее на щеколду с пожеланием: «Просрись, сука!» И она сидела там паинькой, пока он не соблаговолил ее выпустить, а потом даже не осмелилась скандалить.
Он единственный свободно пользовался коммунальной кухней, не боялся оставлять там кастрюлю с супом, хлеб и соль. Животный ужас, который он внушал волчатам, невозможно было даже как следует объяснить.
На его кухонном столе громоздились горы пустых консервных банок, которые он хранил для червей, а также целые вороха клочков грязной бумаги, которыми он пользовался вместо тряпок и полотенец. Над этими нечистотами роились тучи мух, но никто не смел сделать ему замечание.
По утрам он принимал водные процедуры, для чего грел на плите громадный закоптелый чайник и вместе с ним удалялся в разгромленную ванную, где долго плескался, совершенно голый, при открытых дверях, и если забывал в своей комнате полотенце или белье, то в таком же виде шествовал через весь коридор. Встречные с визгом разбегались, он же не обращал на них внимания. Пока он плескался в ванной или готовил себе пищу на кухне, дверь его комнаты была распахнута настежь — так он проветривал свое помещение. В этом логове царил смрад и мрак запустения, на всех предметах громоздились высокие кучи старых пожелтелых газет, пол был заставлен пустыми банками и бутылками, и смердило оттуда чудовищно.
Однажды я была свидетелем, как один из приблудных волчат сунул нос в пещеру и был тут же пойман с поличным. Не знаю, каким чутьем наш ящер унюхал диверсию, но он стремительно выскочил из ванной. Громоздкая голая тень метнулась мне наперерез, и я невольно обратила внимание, что все его тело покрыто ровным коричневым загаром, — как видно, он был нудистом. Я испуганно юркнула в свою комнату, однако успела заметить, как, ухватив за шкирку несчастного пацана, ящер поволок его в свою пещеру и закрыл дверь на ключ. Мне показалось, что жертва при виде голого ящера просто потеряла сознание от ужаса, потому что, сколько я ни прислушивалась, никаких признаков борьбы или скандала из зловонной пещеры не доносилось. Не исключено, что открытая настежь дверь была своего рода западней, ловушкой для глупых жертв. В смятении я моталась по коридору, но мне так и не удалось дождаться момента, когда же наш ящер выпустил свою жертву. Похоже, он схавал ее целиком.
На другой день я осторожно наблюдала за ним, и он засек мой пытливый взгляд, подкараулил в коридоре и преградил дорогу.
— Видела? — спросил он.
— Видела, — призналась я, почему-то не в силах отвести от него взгляда. Он сделал из пальцев вилку и ткнул мне в глаза. Лицо его полыхнуло такой лютой яростью, что меня точно ударом тока шарахнуло об стенку, где я и осталась стоять, будто пришпиленная к ее шершавой поверхности.
Тогда я впервые постигла всю меру его ярости, и она ужаснула меня, но в то же время почему-то восхитила. Я прекрасно понимаю, что злобу и ненависть никак нельзя считать качествами положительными, но снисхождение мое тоже иссякло. В этом блеющем стаде парнокопытных, наследных алкашей, деградантов, слабоумных дистрофиков, начисто потерявших собственное лицо со всеми его качествами и свойствами, как положительными, так и отрицательными, трезвая злоба — явление уже уникальное. Каждый народ заслужил своих палачей.
Буфетчица школьной столовой Зина жила в образе широкой размашистой натуры. Подобные натуры до сих пор весьма популярны в нашей стране, но не надо думать, что они кому-либо помогают или делают что-либо полезное ближнему. Напротив, от них нельзя ждать ничего, кроме неприятностей.
Ни капли не заботясь о завтрашнем дне, они пропивают с кем придется свои и чужие деньги, щедро выставляют на стол все свои запасы жратвы, обрекая семью на жизнь впроголодь. Под горячую руку могут раздарить первому встречному семейные реликвии и заодно последнюю рубаху, а также любимые вещи мужа и ребенка. Так же щедро они разбазаривают и свое время, женят, судят, разводят соседей. Понятие о совести, долге, морали у них весьма приблизительное, потому что ориентируются они в своих поступках на таких же, как они; мнением соседей дорожат больше всего на свете. Они ловко умеют любой гнусный факт своей биографии вывернуть наизнанку и подтасовать так, что даже в собственном сознании живут в образе честных, щедрых и даже возвышенных натур.
Воруют они также стихийно, безалаберно, почти инстинктивно. «Не пойман — не вор» — любимое их изречение, но и пойманный за руку — не стыдится и не раскаивается, а, напротив, в праведном гневе, вопреки очевидности и здравому смыслу, истово доказывает свою невиновность. Когда же дело доходит до суда и возмездия, у них всегда виноват кто-то другой, какой-то мифический злодей, который их подвел. Они же, бедные, всегда невинно страдают из-за своей исключительной доверчивости. Словом, крадут они всегда бездарно, бестолково и почти всегда попадаются, но никогда не раскаиваются и не перестают красть.
В нашей коммуналке воровством промышляли почти все поголовно. Одна тащила звериный корм в зоопраке, другая — детские завтраки в школе, медсестра в больнице крала постельное белье и посуду, из жилконторы несли раковины, унитазы, стройматериалы, крали овощи, фрукты, игрушки, приборы, мыло, колбасу — словом, крали все.
Липка тащила лоскутки материи, предназначенные для экранов радиоприемников, и стегала из них ватные одеяла.
Однажды на кухне семейка волчат что-то кипятила в громадных баках. Оказывается, они сперли по случаю рулон дефицитного наждачного материала и потом отмывали шершавое покрытие, чтобы сделать простыни.
Очередная невестка Василисы работала на заводе, где штампуют пластмассу. Вся ее комната была завалена ярким пластмассовым ширпотребом: вазочки, статуэтки, мыльницы, полочки, игрушки, этажерки, люстры, посуда, хлебницы, — мы ходили в ее комнату, как в музей. Там особенно поражал воображение какой-то продолговатый розовый предмет, совершенный по форме, но абсолютно непонятного назначения. Он оказался деталью самолета, которую эта баба сперла в запарке.
Только одна семейка заматерелых в грехе воров-торгашей крала профессионально: вкрадчиво, аккуратно, скромно. Они никому не позволяли заглядывать в свою комнату, и лишь запахи жратвы, которые доносились оттуда, изобличали их с головой. И еще их спесивая красавица дочь, разодетая как павлин, так откровенно презирала всех нас, как только выскочка из воровской среды может презирать ближнего.