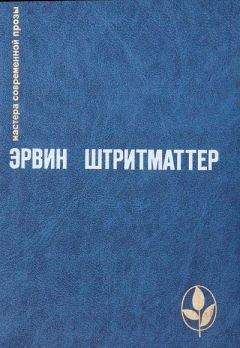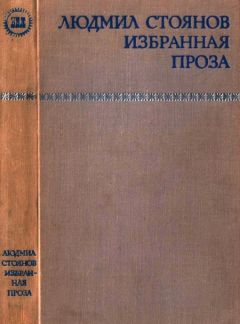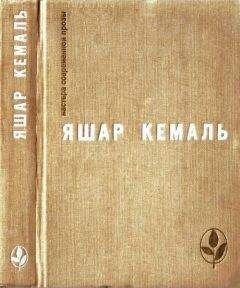Факир Байкурт - Избранное
— Если смотреть в корень, эти получше других будут, дружище, — объяснял он мне свою политическую позицию. — Ценят даже бывшего заключенного. Платят мне девятьсот лир, а то и тысячу, плохо ли? Не всякий образованный столько огребает. А я ведь неграмотный, слова путного сказать не умею.
О своих достоинствах он умалчивал. Другого такого силача не было ни в одном из депо шестого управления. Никакой грузчик не мог с ним тягаться. Ушли в прошлое времена, когда он пахал землю на паре полудохлых бычков, когда тяжелой кувалдой дробил камень, а случалось, и дрался, ушли времена, когда сидел в тюрьме.
У него теперь строго определенный рабочий день: восемь часов, час на обеденный перерыв. Одну неделю он выходит в дневную смену, другую — в ночную. Получает летнюю и зимнюю спецодежду, крепкие, будто из железа, башмаки. Каждый год премия в размере двух окладов. Да еще и пособие: половина оклада.
Иногда он приводит себя в порядок: бреется, моется, надевает все новое или, на худой конец, чисто выстиранную спецодежду — и отправляется в кофейню. Смотрит на играющих в разные игры или же сам играет. Если играет сам, обычно выигрывает. А если смотрит на других, его начинает смаривать сон, и он засыпает прямо в кофейне, с цигаркой во рту. Вся его одежда в заплатах, ни одного целого места. Видя новую дыру, тетушка Гюллю — его жена — долго-долго ворчит, даже плачет с досады, но в конце концов усаживается, латает и штопает. «Тархана пролилась — не беда, бойся людского суда», — повторяет она свою любимую поговорку. И еще: «Кто без ума, тот и без стыда». Но она и не думает всерьез обижаться. Известно, что и сын кади не без греха.
Бекиру-эде не нужно убирать конюшню, хлев, не нужно доить коров, не нужно чистить быков. Он ходит на работу, а в свободное время заглядывает в кофейню. Тетушка Галлю хлопочет по дому. Так оно и идет.
Во всяком случае, Бекир-эде не докучает своей супружнице. На скорую руку поест и встает. Или уходит, или заваливается спать. Тем временем тетушка Гюллю складывает на заднем дворе уголь. Его собирают на железной дороге дети наших «смуглых соотечественников»— бедняков — и продают по сорок-пятьдесят курушей за полный бидон. Зимой цена поднимется до ста — ста пятидесяти. Те, кому нечем топить печь, покупают.
Тетушка Гюллю уже второй раз замужем. Первый ее муж умер. Она жила в доме своих, теперь уже покойных, родителей в деревне Саммезере, недалеко от Антеба, вместе с двумя сестренками; обе они успели выйти замуж. И была она приманчива, как виноград «дамские пальчики», растущий в садах Саммезере, как локум, который там готовят. В этих местах и высмотрел ее Бекир-эде. Они поженились. У них родился ребенок.
Теперь у них несколько полей и в Саммезере, и в Курудере. Обрабатывают их испольщики. Каждую осень присылают хозяевам их долю зерна. Тетушка Гюллю хорошенько его подсушивает и везет на мельницу. Она даже немного важничает, что им не приходится платить деньги за хлеб. Каждую неделю она замешивает полную квашню теста, приглашает жену соседа Кемало (та всегда приходит с дочуркой), в четыре руки они жарят на противне юфки и — уже готовые — складывают их стопками. Аппетитный запах расползается по всему махалле. Иногда здесь останавливаются автобусы, курсирующие по маршруту Антеб — Стамбул. Если пассажирам случается учуять этот запах, у них просто слюнки текут.
Все юфки тетушка Гюллю укладывает на нашем подоконнике. Оба подоконника в их комнате заставлены горшками с геранью, завалены мешочками и узелками. Каждый день она отмачивает по пять — десять лепешек и подает их на стол вместо свежего хлеба. Иногда перепадает и нам. Мы едим с удовольствием.
Для просушки зерна тетушке Гюллю приходится просить у соседей ковры, циновки и покрывала. И соседи — случись какая нужда — заходят к ней запросто. Отказывает тетушка Гюллю редко, но бывает. В таком маленьком махалле ничто не укрывается от людских глаз. «Ты уж не сердись, сестра, — обычно смягчает свой отказ тетушка, — у нас все ковры и покрывала в пропалинах, показать стыдно, не то что взаймы дать…»
Бекир-эде, я уже говорил, обычно спит с открытыми окнами и дверью. Входи, смейся, кричи у него над ухом — ни за что не проснется. Человек легковозбудимый, нервный — даже если проглотит таблетку снотворного — ни за что не уснет в нашем махалле. Орет детвора, играющая во дворе. В кинотеатре — между сеансами — прокручивают пластинки через мощный усилитель. С ним соперничает усилитель, установленный на мечети: он разносит призывы к правоверным, передает священные тексты для учащихся медресе, религиозные песнопения, пятничные проповеди — хутбе. Особенно шумно в Мевлюд[106]. А уж если усилители включат на полную громкость!.. Но ничто не может пробудить Бекира-эде.
Наш сосед Кемало работает кочегаром на железной дороге. Уходит он всегда чистый и опрятный, возвращается весь замызганный, в копоти и угле. У них на железной дороге без конца происходят крушения, гибнут машинисты, кочегары, кондукторы. Поэтому Кемало пристрастился к выпивке. После работы он частенько заворачивает в пашаджикский ресторанчик. Возвращается оттуда уже совсем тепленький. Пиджак нараспашку, фуражка лихо заломлена. И поет какую-нибудь курдскую песню. Если видит меня на веранде, здоровается, иногда останавливается поболтать, а иногда проходит прямо к себе домой и заводит очередную ссору с женой, приносящей ему каждый год по ребенку. Затем отмывается и уходит на рынок. Ему бы лечь поспать, да только сон у него никудышный. «До чего наш Бекир-джан крепко спит, просто завидки берут», — говорит он.
Но в тот день Кемало подошел ко мне трезвый как стеклышко. Не поднимаясь на крыльцо, спросил:
— Бекир-джан дома? Не спит?
— Спит, — ответил я. — На тахте.
— Надо его разбудить. Сегодня у нас профсоюзное собрание. Мы хотим провести в руководство своих людей вместо этих задолизов.
— Попробуй разбуди.
Гремя своими тяжелыми башмаками, Кемало вошел в открытую дверь — очевидно, уверенный, что мигом растормошит, растолкает спящего. Не тут-то было. Через несколько минут он, улыбаясь, вышел и поманил меня.
— Нет, ты только глянь на него!
Мне не хотелось вставать с места: я был занят какой-то своей работой.
— Да глянь же на него, Аллахом заклинаю, — настаивал Кемало. — Такого сони я в жизни не видывал.
Пришлось зайти посмотреть.
Бекир лежал в обычной своей позе, с задранными, широко расставленными коленями. Из раскрытого рта вырывался оглушающий храп. Хррр! Хррр! Хррр! Картина и впрямь была препотешная. Но позабавила меня не столько она, сколько неподдельное изумление соседа.
— Вай! Ва-ай! Ну и дает храпака! — разводил руками Кемало. — А может, его и будить-то не стоит?! — вдруг призадумался он.
— Это почему же?
— А потому, что, если он и придет на собрание, за наших людей голосовать не будет. Нам он все равно не поможет.
— Ну, это ты сам решай, Кемало. Все в твоих руках. Не хочешь — не буди.
Видя, что Кемало стоит, прислонясь спиной к столбу, я вынес ему стул.
— Ты уж не сердись на нашего Бекира-эде. Человек он неплохой. Я от него, во всяком случае, ни одного дурного слова не слышал. Ни от него, ни о нем.
— Не спорю, человек он неплохой. Но как в него столько сна влезает? Дрыхнет и дрыхнет. Хотел бы я знать, какие сны ему снятся. Небось сладкие-сладкие? А может, он таблетки какие глотает или гашишем балуется?
— Ты, Кемало, иди пока вымойся. А он, иншаллах, и сам проснется.
Чуть погодя со стороны дома процентщика Мехмедгиля показалась тетушка Гюллю. Одной рукой она прижимала к бедру решето с фруктами, в другой держала грушу.
— Сколько заплатила? — спросил я улыбаясь. — Вкусная груша?
— Сочная. Замечательный сорт, — ответила тетушка, откусывая большой кусок.
У меня слюнки потекли.
— Дай и мне одну, — попросил я.
— Сейчас вымою, положу на тарелку и принесу. — Она прислушалась. — Все спит, шайтан окаянный?
— Спит, — ответил я. — Как всегда.
— Ну и храпит же он — как паровоз! — вздохнула тетушка Гюллю. — Кроме как спать, ни на что больше не годится. — Она прошла в комнату. — Вставай же, говорю тебе, вставай!
Шумя и гремя, тетушка сняла с полки тарелку.
— Опять небось сжег одеяло, — громко крикнула она и поставила передо мной тарелку, доверху полную фруктов. Эти фрукты, как оказалось, она выменяла у одного зеленщика из Буланык Бахче за три окка пшеницы.
— До чего же я на него зла! Ты вот приехал сюда бог весть откуда. Надрываешься ради хлеба насущного, сил не жалеешь. Холостой, питаешься кое-как, всухомятку. Зимой мерзнешь — печки-то у вас нет. А знай делаешь свое дело. Мой же только и может, что храпеть. Не пойму, больной он, что ли, или не в себе? — Она говорила во весь голос, так, что ее можно было слышать даже на рынке. Опомнится потом — самой стыдно будет.