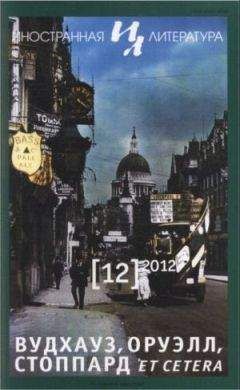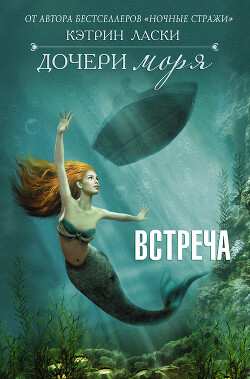Малыш пропал - Ласки Марганита
Но в этой запущенной комнатушке Хилари провел два таких счастливых часа, каких не было в его жизни с тех самых пор, как он покинул Париж.
Начать с того, что еда была неправдоподобно роскошная. Белый хлеб, большущие кровавые бифштексы в 2,5 сантиметра толщиной, в придачу масло. Меренги со взбитыми сливками, выдержанный бри, превосходное красное вино, изысканный арманьяк. Когда-то — но как же давно! — Хилари знал толк в пище. Он обращался со своим нёбом, как с драгоценным инструментом удовольствия, и баловал его изысками, ведомыми лишь посвященным. Но было это в столь далекие времена, что те ощущения выветрились у него из памяти.
Уже столько лет еда была скучной регулярной необходимостью и, если говорить об удовольствии, доставляла еще меньше радости, чем действия кишечника, ради которых она и существует.
И так случилось, что стоило пробудиться вкусовым луковицам, о которых Хилари начисто забыл, как тотчас проснулась чувственная память о прошлых удовольствиях. Он вспомнил запах жарких трав Прованса, и запах дорогих духов, исходящий от женщин в хороших ресторанах, и смолистый запах вина, которое пил в Греции. Вспомнил стрекот цикад жаркими вечерами на юге, и песни цыган, которые слышал в Хортобаджи, и шум голосов на рыночных площадях Италии. Увидел, как въяве, осиянные солнцем черные дороги Франции, и творимый на них мираж осиянных вод, и зубчатую цепь высоких гор на фоне освещенного синего неба. Он забыл, что в прошлом, когда все это было ему дано, ему даны были также молодость, и свобода, и предвоенный мир; он понимал лишь, что в предстоящей жизни вдруг обнаружились возможности для радостей, которые он совершенно не принимал в расчет, когда размышлял о ней.
За кофе и бренди беседа приняла практический оборот. Не напишет ли Хилари статью о работе английских поэтов-эмигрантов во время войны, спросил Эдуард Ренье. Не приедет ли немного погодя, чтобы прочесть несколько лекций об английской литературе? Его имя хорошо известно молодым писателям Франции; Ренье мог бы пообещать ему большие и интересные аудитории. Хилари, в свою очередь, предложил, чтобы Ренье прислал ему статьи о французских писателях-коллаборационистах. Заговорили о художниках Франции и Англии, и теперь оживленно и с пониманием разговор поддержала Бобби. Речь шла о спонтанном ренессансе декоративного искусства в Италии, обсуждали его исторические и социологические последствия. Все это время Пьер молча сидел, откинувшись на спинку стула, и благожелательно улыбался. Казалось, нет никакой необходимости втягивать его в беседу. Милый Пьер, он не интеллектуал, подобная беседа мало что значит для него, промелькнуло в голове у Хилари, и в своей мимолетной презрительной жалости он не оценил по достоинству умение Пьера разбираться в людях, благодаря которому он выбрал среди своих знакомых именно этих двух и пригласил их пообедать с Хилари.
Потом до него дошло, что Ренье и Бобби любовники. Он заметил, что Бобби пожирает взглядом обросшие черными волосами руки Ренье, а тот принимает ее близкое соседство без малейшего напряжения. Постепенно его бездумное наслаждение этим вечером превратилось в ностальгическую романтическую печаль, при которой мы легко принимаемся рыдать, не из-за нас самих и нашего нынешнего горя, но из-за нашей более серьезной трагедии в нашем трагическом мире.
— Нам пора двигать, — сказал Пьер безо всяких объяснений и извинений. Он уже так чутко улавливал настроения Хилари, как мать настроения своего единственного ребенка. Когда они вышли из ресторана, он сказал: — Боюсь, я оказался невнимателен. Наверно, у вас тут старые друзья, с которыми вы хотели бы повидаться?
— Нет, — резко ответил Хилари.
В их с Лайзой жизни в Париже не было друзей, которых он мог бы надеяться увидеть все еще, после войны и оккупации, наверняка обитающими у себя дома. Прежде, живя тут, он думал, будто полностью слился с Францией и с жизнью французов. Теперь осознал, что все тогдашние его знакомые были такие же, как он, эмигранты, интеллектуалы-экспатрианты — англичане, поляки, американцы, немцы, — и война разметала их во все стороны.
— Тогда мы пойдем посидим в «Café de la Paix», — решительно сказал Пьер. — Вы иностранный турист, а я всегда знаю, что требуется иностранному туристу.
Выбор был отличный. Подле них кружил шумный человеческий водоворот. За соседним столиком бородатый мужчина подхватил белокурую проституточку; две смуглые, безукоризненно ухоженные дамы играли в привычную игру с двумя своими безукоризненными кавалерами. Недавнюю задумчивость Хилари как рукой сняло, он с жадным вниманием глядел по сторонам.
Только тогда Пьер спросил:
— Что вы скажете о рассказе мадам Кийбёф?
«Я привык задавать вопросы», — сказал как-то Пьер, но Хилари этого не помнил. Он не сознавал, что благодаря тому, как Пьер задумал и организовал для него сегодняшний вечер, он испытал катарсис и потому мог теперь без напряжения или глубоко укоренившегося нежелания обсуждать то, о чем тот его спрашивал. Он спросил Пьера о том, что его озадачивало:
— Почему вы так добивались, было ли на ребенке пальто?
Пьер вздохнул.
— Консьержка Жанны сумела довольно подробно описать пальто, в котором был мальчик, когда Жанна его уводила. Если бы мадам Кийбёф видела то же пальто, это было бы решающим доказательством.
— А так, как сейчас?
— Я думаю, это ваш мальчик, — твердо сказал Пьер.
Когда они уходили от мадам Кийбёф, Хилари был убежден, что, рассказывая ему о малыше Бубу, она рассказывала о его собственном ребенке. Теперь его убежденность начали затмевать рациональные возражения.
— Бесспорного доказательства, что это он, не существует, — сказал он.
— Да, — согласился Пьер. — Но есть очень большая степень вероятности. Мы знаем, Жанна была знакома с кюре. По-видимому, ей было известно, что он уже помещал других детей в безопасные места, и когда она поняла, что дальше держать мальчика у себя опасно, а на его устройство остается совсем мало времени, она, естественно, обратилась к кюре. Время примерно совпадает.
Мадам Кийбёф не очень уверена, когда именно забрала ребенка, но по тому, что она говорит, это было за неделю-две до Рождества. Ну вот, Жанну арестовали десятого декабря, и если предположить, что ребенок пробыл у кюре неделю до того, как старуха его забрала, так оно в общем и выходит. И еще одно: я попросил сделать анализ крови ребенка, и его группа крови совпадает с вашей. Согласен, это не решающее доказательство, но вместе со всем остальным заставляет очень серьезно задуматься.
— Слишком многое неясно, — упрямо возразил Хилари. — Например, вопрос о пальто. Не забудьте, была середина зимы. Мы знаем, когда Жанна уводила моего ребенка, он определенно был в пальто, — почему же в холодное время кюре отправил его из дому без пальто?
— Мне приходит на ум множество причин, — сказал Пьер. — Возможно, кюре подумал, что пальто мог бы опознать кто-то, кто видел ребенка с Жанной, и, если гестапо искало его, это вполне могло случиться. Возможно, мальчик попал под дождь и пальто намокло — не наденешь. Или, и это скорее всего, когда кюре дал мальчику транквилизатор, чтобы он не плакал и не шумел, он был без пальто, а потом, попозже, пришла мадам Кийбёф, и кюре просто забыл про пальто — он ведь старый был. Помните, первый ребенок, которого она взяла у кюре, был в одной только ночной рубашонке, а нужную одежду приносили, когда детишек у нее забирали.
— Все это вполне правдоподобно, — нехотя согласился Хилари. Ему почему-то отчаянно хотелось спорить со своей недавней уверенностью, что это его сын. — Беда в том, что хотя, он, может быть, и мой мальчик, но также может быть, что не мой. Мне приходит на ум столько других вероятностей. Например, кюре мог переправлять таких детей не только через мадам Кийбёф, у него могли быть и другие контакты. Потом, мы ведь не знаем наверняка, что Жанна отвела моего мальчика к кюре. Она могла отвести его совсем в другое место. Он даже мог попасть в руки гестапо и, быть может, умер в одном из тех поездов, о которых вы рассказывали, или превратился в счастливого представителя нордической расы в каком-нибудь немецком семействе. Вам это не приходило в голову? — вызывающе прибавил он.