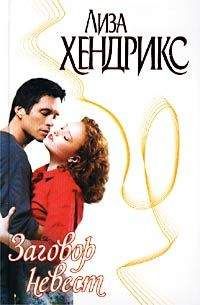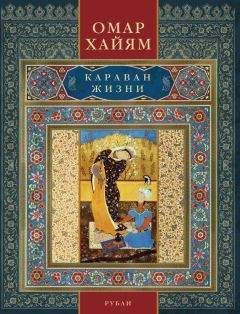Анастасия Черкасова - Палочки на песке (сборник)
Перепрыгивая через кусты и осколки обветшавших памятников, Иван выбежал за пределы кладбища — и побежал по пыльной проселочной дороге, обезумевший, омертвевший от леденящего смертельного ужаса, оставшегося у него внутри. Он бежал прочь, словно спасаясь от настигавшей его погони, словно зверь, убегающий от преследующего его хищника, он бежал туда, где надеялся найти спасение, укрыться, он бежал домой, он бежал куда-нибудь, он просто убегал — лишь бы прочь, лишь бы подальше от этого проклятого зловонного места.
Задыхаясь и чуть не падая, он вылетел на один из сельских глухих перекрестков — но тут же его ослепил яркий свет выехавших автомобильных фар — и тут же его сбила машина, и он бессильно и безжизненно упал на землю.
2008Чертик, отравляющий жизнь
Человек ворочался в постели.
Он уже проснулся, но встать все еще не мог — так ему было больно, и потому пробуждение это не доставляло ему никакой радости, и он усиленно пытался заснуть опять, но у него ничего не получалось.
Ему было больно, очень больно. Боль эта, острая, режущая, гуляла, казалось, по всей области живота, перемещаясь с одной стороны на другую, словно раздирая все на своем пути, и страдания его были невыносимы, а потому он ворочался в постели, не в силах ни встать с нее, ни заснуть вновь, и лицо его было искажено от боли.
Боль гуляла по всему животу, ехидно насмехаясь над своей жертвой, беспощадно ударяясь о стенки страдающих внутренностей больного человека, иногда останавливаясь, словно удовлетворенно прислушиваясь к его стонам, и затем кидаясь вновь на новое место, впиваясь в выбранный собой новый участок маленькими острыми зубками.
Человек стонал и метался по постели. Ему было больно.
Боль постепенно стала переползать с живота в область груди. Подождав, пока больной облегченно вздохнет, приходя в себя после перенесенных болей в животе, она с новой силой ткнула его в сердце и радостно отскочила в сторону, ехидно посмеиваясь.
Больной вскрикнул и замолк, пытаясь отдышаться. Человеку казалось, словно у него в теле ползает маленький чертик — маленький ехидный чертик с острыми зубками и ядовитыми рожками, который колет и дергает его изнутри и отвратительно посмеивается, постукивая по внутренностям этими крошечными раскаленными рожками, напрягая свои рожки еще сильнее и растягивая маленький противный рот в гадкой улыбке.
Человек лежал на постели, и не мог с нее подняться. Ему было больно. В теле у него ползал крошечный чертик и болезненно кусал его, и бодал маленькими рожками, и восторженно мерзко посмеивался, и ползал под его кожей еще усиленнее, образовывая на местах своего присутствия отвратительно болезненное чувство жжения.
Он ползал, тыкая человека в живот, а потом в сердце и в легкие, заставляя свою жертву вскрикивать и съеживаться в постели, издавая беспомощные стоны. Чертика это забавляло.
Поползав внутри тела, он неожиданно добрался до души человека, ошпарив ее острым смрадом своего горячего дыхания, и тут же человек взвыл от боли, вспомнив все то, что так жгло его душу в последнее время, все, что заставляло его страдать, все, что он так жаждал получить, так старался — и не мог, и по щекам его потекли слезы боли, беспомощности и глубокого отвращения к самому себе, такому слабому и бесполезному.
Чертик засмеялся заливисто и гадко и медленно прополз по шее человека, забираясь в его голову, отчего больной глухо закашлялся. Тут же он почувствовал острую боль в голове, и заметался по постели еще отчаяннее, стараясь с нею совладать. Чертик смеялся, опрокинувшись на спину и стуча своими жгучими копытцами, и болезненные постукивания эти отдавались, казалось, где-то в мозгу. Его веселило происходящее. Человек стонал.
Больному не переставало казаться, что внутри его тела ползает маленький вредный чертик — такой крошечный, но способный доставить такую острую, такую нестерпимую боль, что ей было под силу разбередить не только внутренние органы, но и добраться даже до души. Человек стонал от болезненного жжения внутри. Чертик смеялся, размахивая остроконечными ножками.
— Пошел вон! — крикнул отчаявшийся больной и встряхнул головой что было мочи, отчего замешкавшийся чертик вылетел из тела человека, выскользнув через ухо, и шлепнулся на пол рядом с кроватью.
В то же мгновение боль покинула человека, и ему стало хорошо и спокойно. Посмотрев на свою бывшую жертву, чертик хотел было заползти обратно, но, словно почувствовав это, человек крикнул:
— Убирайся вон! Убирайся и больше не возвращайся ко мне. Никогда!
Чертик замер, глядя на лежавшего в постели человека. Тому было хорошо, у него больше ничего не болело, и душу его больше не жгли ни болезненные желания, ни какие-либо сомнения. Его больше ничего не беспокоило. Ему было хорошо и спокойно. Он лежал в постели и улыбался. Он уже мог встать, но вставать ему не хотелось, и он продолжал лежать дальше. Человек больше не видел смысла в том, чтобы вставать с постели и куда-либо идти. Ему не нужно было больше ничего делать — его больше ничего на свете не беспокоило.
— Дурак! — крикнул чертик, глядя на лежащего в постели человека, — Ты выгнал меня, и я больше не смогу к тебе вернуться. Ты вышвырнул меня из своей никчемной жизни, уверенный в том, что поступаешь правильно, но даже не задумался над тем, как я тебе был нужен. Кто ты теперь? Ты навсегда останешься вечно довольным жизнью улыбающимся идиотом. Кто ты без меня? Что представляет из себя человек, которого никогда ничего не беспокоит, у которого никогда ничего не болит, и душу его не жгут никакие переживания? Чего может в жизни добиться человек, не имеющий никаких препятствий, не жаждущий их преодоления? Ты поступил беспечно, выгнав меня. Теперь тебя никогда ничего не будет мучить, и тебе всегда будет спокойно и хорошо. Но ты никогда не сможешь ничего добиться и не сможешь превратить себя в сильную и стоящую личность. Ты обречен на то, чтобы навечно остаться блаженным идиотом. Тебе всегда теперь будет хорошо, но сам ты — никто, и жизнь твоя отныне пуста и не имеет никакого смысла!
Человек лежал в постели и улыбался. Хлопнув крыльями, чертик вылетел в окно и отправился на поиски своей новой жертвы.
27.06.2009В память о Наташе
Она была лучше всех.
Она просто была лучше всех. Она просто была самой лучшей девушкой в моей жизни, самым лучшим человеком, она просто была той, кто был всем смыслом моей жизни, той, кого я так глупо, так беспечно потерял — и той, кто уже никогда не вернется ко мне. Я уже никогда не увижу ее лица и не проведу рукой по тонким волосам, по нежной коже. Я уже никогда не увижу ее улыбки — она навсегда осталась лишь на тонкой поверхности фотографических снимков, отображавших ее, я уже никогда не услышу ее голоса и не узнаю о ней ничего — просто потому, что ее история уже закончилась, просто потому, что Наташи больше нет.
Я посвящаю этот рассказ своей погибшей девушке, своей любимой девушке Наташе.
Мы прожили с ней вместе без малого два года. Тогда мне было двадцать три, а ей — девятнадцать. Теперь уже мне двадцать четыре года, а ей… Ей по-прежнему девятнадцать, и столько, сколько мне сейчас, ей уже не будет никогда, не будет ей даже и двадцати — цифра ее нежного возраста уже никогда не изменится, и лицо ее навсегда останется в моей памяти таким, каким я запомнил его за эти совместные годы, и черты его никогда не растают, но никогда и не изменятся, поскольку Наташа переступила грань этой возрастной силы, и время уже никогда не сможет затронуть ее тонких, задумчивых и красивых черт лица.
Наташа.
Когда мы познакомились, ей было всего шестнадцать лет. Она училась в одиннадцатом классе, последнем классе школы, а мне было двадцать, и я уже давно учился в институте на юриста.
Она всегда была очень жизнерадостной, моя Наташка, и я полюбил ее сразу же, всем сердцем, и уже буквально с первых дней нашего знакомства знал, что именно она и только она станет моей женой, моей единственной и настоящей любовью, без которой я не мыслил, не знал своего существования. Я не представлял, как бы могла ужасно сложиться моя жизнь, не встреть я ее не своем пути — и ужаснее всего было бы то, что я даже не знал бы о том, что мог встретить такое счастье — а теперь я знаю, и весь холодный ужас состоит в том, что теперь, узнав, я это потерял, и теперь я не знаю, просто не могу себе представить, как мне жить. Как мне жить дальше, если я навсегда ее потерял, мою единственную Наташку, и как мне жить, зная, что я ведь мог ее удержать — мог, но не сумел? А ведь она знала, что умирает, знала, и пыталась донести это до меня, докричаться — а я не понял ее, не услышал, не разобрал ее крика!
Наташка. Она болела, тяжело болела. Вот только понял я это лишь после ее смерти — до же я не был способен это понять, просто я не воспринимал всерьез ее жалоб и считал, что все ее странности и особенности перепадов ее настроения — лишь не более чем ее личностные качества, которые не представляют собой ничего трагического.