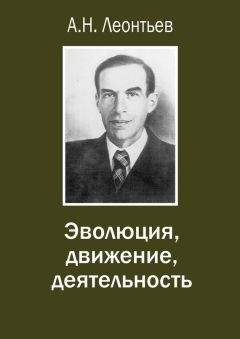Алексей Ильин - Время воздаяния
— Так я прожила много веков, — сказала она мне тогда, словно поняв мои мысли, — смерть от старости мне не грозила, как ты понимаешь… — она криво усмехнулась. — Так что заработать на этот ваш хлеб, который необходим и мне тоже, я всегда могла… — снова ухмылка, на сей раз бесстыдная: — Были времена, когда большие вельможи бывали у меня — и, обезумев от страсти, ползали предо мною, лобзая кончики пальцев моих ног…
Мой взгляд, вероятно, стал вопросительным, и она вдруг снова смутилась:
— Не веришь… А между тем так и было…
— Верю, — не без труда разлепил я непослушные от долгого молчания губы, — только хочу понять — что же изменилось с тех пор?
— С тех пор во мне начало появляться все больше и больше… — человеческого… — оно в последнее время вдруг стало брать верх над, казалось бы, неизмеримо более могучей и великой силой тьмы, что управляла моими поступками, глядела моими глазами, владела моими губами и языком, — снова бесстыдно ухмыльнулась она, — которыми многие были обращены ко… злу, как ты, наверно, считаешь.
— Конечно, ко злу, — начал было я, — ибо сказано:…
— Послушай, это сейчас не имеет никакого значения, — прервала она, и я вдруг осекся, будто она имела надо мной власть — запретить мне говорить речи, которые не могли мне запретить пытки и стены темниц.
— Никакого, — задумчиво говорила она, как бы и не мне, а тяжелой толще ночной тьмы у меня за спиною, — им было хорошо со мной, хорошо, мы… мы любили… любили… — снова повторяла она, как заклинание, а я, глядя на нее, с горечью думал, что и верно: не получив этого чувства и этой способности от рождения, нельзя приобрести знание о нем, даже прожив века — и за огонь этого великого дара принимает она всего лишь неуклюжее копошение холодной и скользкой похоти.
— Ты не можешь сделать, чтобы человеку стало просто хорошо — всему человеку, с его плотью и кровью, а не только его душе — чтобы глаза его невольно прикрывались в наслаждении, нестерпимом, как боль, — снова обратилась она ко мне, и я в некоторой растерянности признал, что это правда, — ты не можешь сделать, чтобы в истоме он забывал обо всех — не только бедах и тяготах, но долге своем и привязанностях; а я — могу. Я могу — хотя бы на час — превратить каждого человека с его личной судьбой, воспоминаниями, достоинствами и недостатками — в человека вообще, каким он был создан в незапамятные даже для нас с тобой времена, и возвратить ему ту изначальную радость бытия, с которой он пришел в этот мир, ту самую радость, ради которой он задумывался и создавался, именно то, что и составляет ваше везение, ваш выигрыш в игре с судьбой, то, что никогда не выиграть нам, кому от рождения не дано ничего, что можно было хотя бы поставить на кон…
— Ты можешь приносить только страдание — очистительное, как ты правильно считаешь, для души — подобно клистиру, очищающему кишечник — и точно так же приносящее затем облегчение и своего рода наслаждение… Хотя ты и не называешь его так из ложной стыдливости.
Что — то в ее словах казалось мне неправильным, похожим на подтасованное доказательство какой — то геометрической нелепицы, однако я все не мог уловить незаметно укрывшейся в них тонкости. Наконец я понял:
— Наслаждение, которое приносишь ты и которое так ценишь… — хорошо, хорошо: люди также — здесь ты права — неважно… Радость бытия… Ты сама назвала здесь самое важное: «на час» — час проходит, к человеку возвращаются и его воспоминания, и его заботы, и главное — его постепенно охватывает — пусть неосознанно — чувство разочарования.
Ее глаза чуть расширились от удивления; я продолжал:
— Удивлена? Но признай: тебе ведь это также знакомо? Правда?..
Я сам удивился неожиданному злорадству, с которым прочитал это в ее глазах, где уже не стояло удивление, а поднималась боль; радоваться злу не пристало, и я смутился, однако остановиться уже не мог:
— Конечно правда, — повторил я ожесточенно, — как правда и то, что он непременно вернется к тебе при первой возможности, чтобы снова пережить свое сладкое забытье, только… Только тогда ему потребуется чуть больше — совсем немного, но — неизбежно. А в следующий раз еще немного больше, затем еще… Так, с каждым разом все быстрее накапливаясь, действует яд разочарования — и в какой — то момент кроме него не остается более ничего, и ничто более не способно обрадовать и утешить разочарованного человека, и он — если не гибнет — то постепенно превращается в злобно извращенное чудовище, становится одним из вас… Тьма мироздания ведь также по — своему чрезвычайно мудра, ты просто не можешь вместить всю ее мудрость…
Ночная моя собеседница сжалась еще — если только это было возможно — больше, смотрела уже не на меня, а — в огонь; пламя гаснущего костра отражалось в ее глазах живыми багровыми бликами. В этом мире воздуха и сияющей в каждой его частице мудрости творца, несомой от предусмотренных им светил, а также распространяемой подобными мне вестниками, огонь был живою частицей его силы, и уже построены были первые храмы, в которых по завету моему берегли этот живой огонь, как воплощение чудесной силы создателя нашего и благодетеля, берегли десятилетиями и впоследствии даже веками. Но огонь костра сберечь было нельзя — утром, что вскоре должно было уже наступить, следовало нам подняться и продолжать свой путь, с подобающим благоговением потушив огонь и оставив на том месте, где он был, черное выжженное пятно и горстку теплой еще золы. Однако теперь, когда языки низкого уже пламени ласкали последние подброшенные мною сучья, что истаивали от этой огненной ласки, разрушаясь и исчезая в ней, зрачки незнакомки — которую я продолжал так называть более по привычке — казалось, впивают в себя свет и жар огня, запасая их где — то в самой глубине ее хрупкого тела; я рассудил, что это может принести лишь пользу и, перестав следить за нею, задумался.
«Из моих собственных слов следует, — вдруг подумал я, — что радость в этом мире, вырванном ярким лучом божественного света из тьмы мироздания — всегда преходяща и кратка… И только лишь страдание и свет — вечны…» — и горький дым догорающего костра смешался с горькой горечью, впервые в жизни поднявшейся у меня из самой глубины души, так что въяве ощутил я их полынный вкус, так что свело мне давно ставший обычным розовым, хотя по — прежнему раздвоенный на конце, язык. И еще: «Зачем тогда — всё?..» — мелькнула мышью и юркнула в глубину сознания мысль.
— Зачем тогда всё это, — произнес глухой хрипловатый, ставший мучительным для меня голос, — зачем было творить этот мир, ставить великие преграды для его сохранения, наполнять воздухом, покрывать лесами и заселять животными, приводить лишь для него одного созданных людей, что не могут прожить ни часу вне его хрупких и несокрушимых пределов… Только чтобы заливать божественным светом — их скоротечную призрачную радость и вечное страдание?..
— Что — то здесь не так, — покачала она головою.
Многие десятилетия спустя я вспоминал жгучий стыд, что выплеснутым кипятком стал растекаться тогда по моим щекам, шее, покалывать затылок своими иглами. Это исчадие бездны, казалось, укоряло меня — вестника и проводника света великих небес — в моей слабости, жалком сомнении, исподволь пускающем корни в моей душе; а я — я, даже застигнутый стыдом, не мог более избавиться от этого ядовитого ростка, покуда чуть заметного, слабого и неуверенного, но казавшегося неистребимым. Я допустил еще одну слабость, нелепую, детскую — и снова закрыл лицо руками.
«Не так… не так… — услышал я тогда в ночной тишине свой сдавленный, совсем чужой голос, — я знаю… верю — не так… Но что — не так, я не знаю… И мой владыка не сделал мне милости — дать мне это знание… Наверно, я также не смог бы вместить его, как ты не можешь вместить хитроумности злого предначертания, что бросило тебя сюда… Да, да, я помню — нет, не тебя… Ну, так бросило то, что тебя породило… Неважно: бросило семя — семя зла… И кажется, что оно — всесильно, вездесуще, отовсюду тянутся его отравленные побеги; кажется — несмотря на то, что все движется к лучшему в этом лучшем из миров, греет солнце, веют прохладные ветры, шумят благодатные леса — и взглянув на них издалека, видишь только это радостное и покойное колыхание листвы, слышишь чудесное пение птиц: радость и покой, только покой и радость видны глазу издалека; но приблизившись, приглядевшись внимательнее, видишь, что за ними скрывается непрестанная борьба за… не знаю, за что — за место под солнцем, за пищу; идет непрестанное взаимопожирание; вопли страдания тогда становятся различимы и доносятся из каждого уголка, и это страдание, вечное, неизбывное, без которого немыслимо само существование прекрасного, наполненного воздухом и светом мира, смыкается и переплетается с миазмами, которыми отравляет его вечно стремящаяся его уничтожить темная бездна… И кажется, что они суть — одно…»