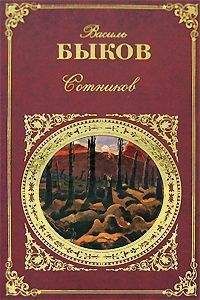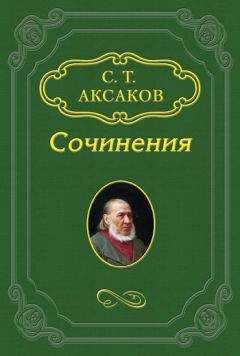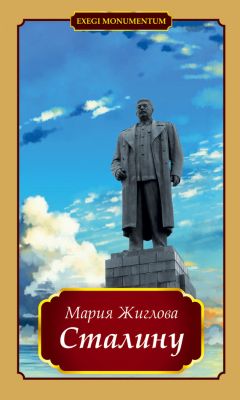Мишель Кент - Страшные сады (сборник)
Есть способ отказаться? Я обидел ее своей сценой антифашиста с незапятнанной совестью, и она отплатила мне той же монетой… Это честная война… Да, пойдем на рок, но только послушать… О’кей, она почти вытолкнула меня на тротуар… Tchass, пока… До скорого, bis bald, я заберу тебя в восемь вечера… И ее голос смягчился.
Я вышел из машины, она тотчас же уехала. Наверху колыхались занавески в комнате мальчиков, а Лоенгрин глазел в окно и махал рукой. Узнав, что я вернулся, он тут же прибежал дать мне препаршивый концерт на фисгармонике, дубася двумя кулаками по клавиатуре, военный марш, под который можно было маршировать разве что гусиным шагом, развлекая меня, пока я тешил себя надеждой превратиться в красавца — душ, бритье, капелька лака с восточным ароматом на волосы, белая рубашка. Гертруда пришла успокоить своего чудо-музыканта. Я сказал, что обожаю манеру, в которой Лоенгрин играет Вагнера. Она засмеялась и настояла на том, чтобы одолжить мне ужасный галстук в красную и голубую полоску.
Галстук Сэмми, в «Палетт», выглядел еще хуже. Шелковый, с нарисованной вручную Бетти Буп на кремовом фоне. Сэмми был из тех редких американских солдат, что не носят форму и любезничают направо и налево. За исключением Инги, нескольких других девушек и меня, все присутствующие имели отношение к американской армии. Ночной клуб, полностью контролируемый оккупантами, представлял собой темную пещеру с выкрашенными в черное стенами и ветхой мебелью. Единственными скупо освещенными местами были подковообразная барная стойка и короткая эстрада, на которой четыре рокера с длинными волосами, бросив на ударную установку гитары, ели картошку фри из бумажных кульков, пристроенных на коленях. В ожидании, пока они исполнят еще что-нибудь, музыкальный автомат играл «Keep on runnin’».
Сэмми был местью Инги, ее способом указать мне на мое полное ничтожество в любви и в политике! Огромный негр, с фигурой Гарри Белафонте, в рубашке табачного цвета с короткими рукавами, говоривший по-немецки с таким старанием, словно этого требовала вежливость. На гражданке он был спортивным журналистом. Пресловутая завязка на Олимпийские игры! Непревосходимый соперник!
Но каким бы Супертарзаном он ни казался, по его мгновенно увядшей улыбке, по его манере сверлить меня взглядом, а потом что-то по секрету выспрашивать у Инги, по его дерьмовому галстуку я сразу понял, что сегодня вечером у них было назначено нежное свидание, прямо здесь, однако все пошло не так, как планировалось: Инга только что объявила Сэмми о конце их романа и, последняя жестокость, представила ему его заместителя! То есть меня! Представляешь, папа, мою гордость маленького петушка и вместе с тем мое замешательство любовника, которого так откровенно используют?.. Сэмми был в два раза красивее меня и в миллион раз обольстительнее, за исключением его галстука, а Инга нанесла ему такое оскорбление?.. Я чувствовал себя в шкуре жиголо, самого уродливого и глупого в мире, и в то же время мне хотелось петь Марсельезу! Золотая медаль Франции в любовных играх!..
Сэмми настоял на том, чтобы расплатиться за наши напитки, и позволил себе пригласить Ингу лишь на один танец под «Roll over Beethoven», когда музыканты вновь взяли свои гитары, даже не вымыв рук после еды. На ней было оранжевое платье-трапеция, которое колыхалось на ее бедрах при каждом движении. От их танца веяло горечью расставания и послевкусием удовольствия. Когда они вернулись ко мне, я с важным видом обладателя драгоценного военного трофея предложил Сэмми еще немного потанцевать с моей красавицей. Поскольку я… хореография, это не… Сэмми только улыбнулся мне своей голливудской улыбкой и сказал, что теперь нам лучше уйти. Он был лейтенантом военной полиции и знал, что скоро сюда нагрянут его коллеги… А тогда… После майских терактов банды Баадер-Майнхоф против штаб-квартиры американской армии во Франкфурте и в Гейдельберге американцы стали слишком обидчивы… Какая-нибудь одинокая молодая немка среди американских солдат могла оказаться террористкой… Инга кивнула и чмокнула Сэмми. Я же, сочтя бегство трусостью, из удальства решил допить свое пиво. Но не успел: Инга быстро вытащила меня на улицу, вытирая мне на ходу пену с губ. Ее «уньон» был припаркован как надо, двигателем вниз.
Тем вечером мы отдались красотам пейзажа, с головой погрузились в меланхолию здешних мест. С пивными кружками в руках мы причащались этой призрачно-романтичной атмосферы. Потому что не могли сразу перейти к поцелуям, к ласкам… Под страхом смерти мы не могли бы показать себя глупее, вести себя проще… Ах да, еще кое-что, папа: твой Аполлинер, которого ты все время заставлял учить своих учеников, и Германия в его поэзии… Инга и я, в начале наших отношений, когда нам требовались обходные пути, чтобы говорить о любви, в его стихах мы черпали силы. Я говорил ей о зеленоволосых ундинах, об опьяневшем Рейне, а она отвечала мне Сеной, мостом Мирабо и днями любви, но помню я смиренно… Я бы руку дал на отсечение, что Сэмми не знал Аполлинера, Камю, вообще литературу. И что тогда он мог понимать в немке?.. А я, как будто моей возлюбленной была Лорелей!
Потом, уже глубокой ночью, в начале улицы Friedhofsweg, я оставил ее, пятясь задом, как накануне, продолжив нашу маленькую игру в Орфея и Эвредику, теряющих друг друга на пороге ада, на краю жизни, и когда я уже почти не мог ее видеть, она сказала:
— «Любилось бы легче, влюбись я слегка».
Представляешь, какая штука, папа?.. Я был сражен, Аполлинер ударил точно промеж глаз! Она только что запустила мне прямо в сердце бомбу, и я пропал! Террористка чувств! В точности старый оживший миф: впечатление человека, который идет искать свою жену в ад и, несмотря на запрет, не может удержаться, чтобы не взглянуть на нее, пока они не выйдут оттуда. Орфей и Эвридика. У меня возникло похожее ощущение, словно что-то утекает из рук, то, что мне дают и забирают обратно одним и тем же движением. Я бы взорвал крест на углу улицы Кладбища! Я помочился на него. Из-за пива.
На следующий день, на рассвете, меня разбудил Теодор: объезд строительных площадок. Воскресенье. Sonntag. Ja. Я обещал. Мы поехали на его «фольксвагене». Он говорил, говорил, об Олимпийских играх в Мюнхене, о церемонии открытия, на которую ни я, ни Инга не обратили внимания, о первых медалях, о том о сем, что мы, французы, можем выиграть 110 метров с барьерами, и еще, и еще, и кроме того он беспокоился, не сложилось ли плохое мнение о немцах из-за РАФ, Фракции Красной Армии, бандитов, которые повсюду бросают бомбы, но которые, слава богу, в тюрьме… Можно было подумать, что Сэмми преподал ему урок трусости!.. Сплошное занудство. Все утро мы осматривали интерьеры, более или менее законченные, оценивали покрытые воском стойки, кружево необработанного дерева над сервантами для пивных кружек, обдумывали проходы для официанток между пивными кранами и столами, обсуждали расцветку тканей для занавесок, лак для мебели и рейки для обшивки стен. И всякий раз, не спрашивая нашего мнения, нам совали в пятерню очередную кружку пенистого пива, и Gesundheit, на здоровье!.. К полудню я был совершенно пьян, а Теодор смеялся надо мною во все свое брюхо.
Это потом, слушай внимательно, папа, я забыл название той деревни, совсем рядом с Фульдой, и название пивной, в которой Теодор должен был в скором времени приступить к переделке, но там, во второй половине дня, я разом протрезвел.
Это был наш последний заход перед возвращением домой.
Теодор показывал шефу эскизы, а я думал об Инге, раскачиваясь меж столов, пьяный вдребодан. И, наверное, я угрожающе терял равновесие, потому что какой-то тип лет шестидесяти, в маленькой замшевой баварской шляпе, элегантный и очень крепкий, предложил мне присесть: setzen Sie sich! Он сидел в одиночестве за Stammtisch — большим круглым столом завсегдатаев с медной пластинкой посередине, на которой выгравированы их имена. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что я француз. А вот чтобы спросить меня сразу и на моем языке, не с севера ли Франции я приехал, нужен был веский повод. И таковой у него имелся: часть войны он провел в Нор-Па-де-Кале… А я, пойди пойми почему, пьянство, моя проклятая привычка строить из себя самого умного, мсье всезнайку, я начал рассказывать об Адриане, о том, что за два дня встретил двух бывших солдат, которые бывали в моих местах… А потом, очень гордый, я рассказал твою историю героических заложников. Я получал удовольствие от этого рассказа; непростительно, что меня распирало, пока я воспевал твои подвиги, папа, и что, сам того не зная, своим хвастовством я снова предал тебя… Потому что прежняя жестокость показала себя во всей красе, просто и сердечно. Без каких-либо предзнаменований, ничего, ни приоткрытых дверей ада, ни раздающихся вокруг криков обреченных. Этот человек не переставал улыбаться, громко восхищаться, удивленно вскидывать брови вплоть до конца моего маленького рассказа, когда он понял, что знаменитая немецкая армия была одурачена простым героизмом маленьких людей. Большим пальцем автоматически надраивая медную пластину, он сказал мне глаза в глаза, что дорого бы дал за то, чтобы узнать обо всем этом тогда… Потому что дело о взрыве трансформатора на вокзале Дуэ коснулось и его тоже! Он не помнил ни тебя, папа, ни Гастона, но вовсе не отказывался от своей роли в этом фарсе. Да, в то время, которое я упомянул, именно он отвечал за зону Лилля, и именно он подписал приказ об аресте четырех заложников, а потом приказ о депортации… Какая жалость, даже какой стыд для бывшего офицера — не понять, что он держал в заложниках настоящих виновников взрыва и что ему нужно было только расстрелять их… Знаешь, папа, оказывается, ты и Гастон, если бы вы имели понятие о чести, должны были бы сдаться и не ждать, что вас спасет ошибка их служб… Ну да ладно, у каждого своя мораль… Для него это был долг, не так ли, отдавать приказы?.. Мучить, расстреливать, высылать, понятно, что этим занимались младшие офицеры… Его нельзя было в этом обвинить… А потом долг потребовал сотрудничества с американцами после падения Третьего рейха… Его даже почти убедили вступить в организацию Петерсена, вместе с Клаусом Барбье, завербовали, чтобы бороться с коммунистами!.. Среди тех, кого он сдал, лишь один ускользнул от ЦРУ — фон Риббентроп, арестованный каким-то англичанином где-то в районе Гамбурга… Американцы посчитали это чуть ли не предательством и ждали от него оправданий… Он открыто потешался над ними… Что касается твоей истории, он смотрел на меня, пытаясь найти в моих чертах сходство с тобой… Он приговорил тебя к смерти, потом помиловал и послал на другую смерть, в лагерь, у него была непомерная власть над твоей жизнью, и он говорил об этом с нежностью, как о дорогом воспоминании… А Лиль, закусочная Жан, на углу улицы Федерб, напротив оперы!.. Сколько вечеринок он там закатил!.. Он снова чувствовал себя хозяином, выпихивая нас своей маниакальной памятью с лилльской мостовой! И в довершение всего: он радовался, папа, что ты выбрался из этого живым и невредимым, рукоплескал твоему побегу… В нем была какая-то спокойная наглость, невыносимая вежливость палача… Он спросил у меня твое имя, сказал свое, попросил записать, чтобы я передал тебе от него привет… И все это даже не потрудившись снять шляпу!..