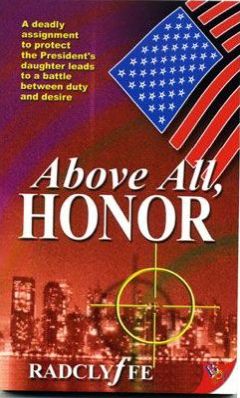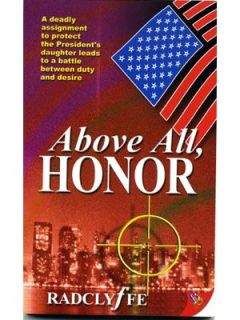Роман Савов - Опыт интеллектуальной любви
— Это акушерка. Мамина знакомая. Она принимала у нее роды. А теперь мама договорилась с ней.
Я с удивлением увидел, что Настя хоть как-то проявила себя. Она была бледна, немногословна и крайне задумчива. Это была новая Настя. О чем она думала, узнать было невозможно. Что бы я ни предположил о ее мыслях, наверняка, она думает не о том.
Ее мать спускалась по лестнице с женщиной средних лет в белом халате, перед которой мне тоже стало стыдно (почему?), так что я покраснел, как мне показалось. Она поздоровалась с нами, внимательно оглядела (так мать оглядывает нашкодившее дитя) и весело полу-спросила — полу-констатировала:
— Так вы всей компанией пожаловали? Ну, зачем же так беспокоиться?
А затем, по-деловому обращаясь уже к Насте, сказала:
— Справки принесла? Пойдем.
Ситуация разрядилась. Я почувствовал себя гораздо лучше оттого, что кто-то воспринимал ситуацию, как обычную.
Но стоило мне успокоиться, как я задумался: "А что, если сейчас Настя говорит с акушеркой о том, как они будут имитировать аборт, что, если акушерка берет сейчас деньги за молчание, за справку или еще за что-нибудь?"
Представилось, как Настя уходит будто бы на операцию, а Людмила Георгиевна подходит ко мне и шепчет: "Не верь ей, она обманывает тебя. Слышишь, не верь!" Что, если с Секундовым был проделан тот же трюк? Кому же можно верить?
Мы начинаем двигаться по бесконечным коридорам и лестничным пролетам, удивительно знакомым: именно их я сравнивал с адом в прелюдийном опусе, именно они ждут меня, когда мое дыхание остановится. Я знал, что это преддверие, и сейчас, стоит мне захотеть, я могу войти туда, где следует оставить все надежды. Но в этот раз туда пойдет Настя. Она пойдет не вместо меня, но она пойдет туда первая, а это что-то да значит. Даже если она лжет, она пойдет туда, за сокровенную дверь.
Мы останавливаемся на полдороге к одинокой двери. На площадке уныло ожидают несколько женщин. Одна совсем еще девушка, другая — зрелая, третья — с большим животом. Настя поднимается и становится рядом — вместе они образовывают очередь. Тихо о чем-то говорят. Настя в разговоре не участвует. Она стоит и ждет.
По одной их приглашают за дверь. Странно, что дверь в преисподнюю находится так высоко, но в том мире верх и низ, наверняка, перепутаны.
Я оглядываюсь, и вижу молодого человека, который ждет, он ждет ту, которая совсем еще девушка. Я стараюсь сфокусироваться на его руке, и, когда мне это удается, вижу на безымянном пальце кольцо — значит, муж и жена.
Я чувствую, что делаю что-то не так, чувствую, что нас с Настей несет в какую-то пропасть, но я не знаю, кто же в этом виноват.
Выходит акушерка и говорит:
— Следующая!
Где-то я слышал, что к женщинам, вроде Насти, относятся очень плохо, но тон акушерки совершенно безразличен.
Через 10 минут:
— Следующая.
Через полчаса:
— Следующая.
Настю зовут последней. Она спускается, и обнимает мать. На меня она даже не смотрит.
Внезапно я замечаю, что Людмила Георгиевна стоит рядом, рядом со мной. Что же, я так задумался, что не увидел, как она подошла?
Она с едкой усмешкой (вызывая во мне в очередной раз смутные подозрения) говорит:
— Провожаете, как на смерть. Спускайтесь вниз и ждите. Я вам скажу, когда можно будет забрать.
— Сколько ждать? — спрашиваю я.
Она изумленно смотрит мне в глаза:
— Часа полтора.
Видя, как мне неуютно, Алла предлагает пройтись, но я отвечаю, что лучше уж я почитаю.
Постепенно я втягиваюсь. Булгаков заставляет забыть о том, что происходит здесь и сейчас, заставляет сосредоточиться только на одном, не на сюжете, а на том, что роман должен быть прочитан, закончен, хотя бы мной, если не им.
"Чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе. А было более важное. Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. И вот тут подозрения мои перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена…"
Я прочитал роман, точнее то, что Булгаков успел.
У меня осталось странное впечатление. Неоконченность произведений с детства интриговала, но на этот раз неоконченность была какою-то нехорошей. Право, было бы лучше, если Булгаков остановился на полуслове, но он остановился на полумысли, и это было скверно.
Я убрал книгу в пакет и огляделся. Вокруг суетились женщины, ходили медсестры и врачи.
В душе царила тишина.
Некая женщина подошла к Алле, задумчиво сидящей рядом со мной, и поздоровалась. Она была ровесница матери Насти, но выглядела старой.
После обычных приветствий она стала задавать совершенно неуместные вопросы:
— Что ты тут делаешь? Как дочери?
По лицу Аллы я видел, как ей хочется спровадить это существо.
Женщина была настолько глупа, что так и не поняла, что я — это я.
Она рассказала, что пришла сюда сдать анализы и провериться на предмет выявления какого-то недуга. Ее постоянные вопросы о причине визита Аллы были парированы с потрясающим мастерством.
Она не стала скрывать, что пришла с Настей, но не сказала, зачем Настя пришла сюда. В завершение она просто сказала:
— Ну, нам пора.
И пошла. Я встал и пошел следом, сделав, впрочем, достаточную паузу, достаточную для того, чтобы эта тупица не поняла, что я был здесь вместе с Аллой.
Вскоре спустилась акушерка, и сказала, что можно забрать Настю. Я встал, но она так посмотрела, что я понял: "Твое присутствие нежелательно". Я сел на место. Только сейчас я поверил на мгновение, что Настя могла сделать аборт на самом деле, что это не ложь.
Они спускались по лестнице рука об руку: Настя и ее мать. Я поспешил им на помощь. Настя выглядела слабой. Она оперлась на мою руку, и мы пошли. Я рассматривал ее, думая только о том, играет ли она сейчас или нет. Она играла, это я видел. Но вопрос был в том, играет ли она, перенеся аборт, или играет, делая вид, что перенесла.
На улице ее мать спешно простилась и убежала на остановку. Оказывается, она должна была быть на работе.
— Побудь с Настей. Она так слаба. Проследи, чтобы попила чаю и не забыла про таблетки.
Настя держалась за меня, но складывалось впечатление, что чувствует она себя хорошо. Настя попросила об услуге: не выходить на Октябрьском городке, чтобы не переходить через железную дорогу, а выйти попозже, через две остановки. До ее дома оттуда хотя и дальше, но дорога лучше. Я кивнул.
Мы шли под моросящим дождем, и я думал о счастье. Я не испытывал ни угрызений совести, ни тяжести, ни нервного напряжения. Не победа, но и не поражение. Мне не было жаль Настю. Я чувствовал, что люблю ее. Во мне была уверенность, что все было сделано правильно. Может быть, мы и совершили нечто непоправимое, но здесь и сейчас этот поступок был целесообразен, он был целесообразен, ибо был выбран мною для сохранения любви. Я сознавал, что любовь Насти после произошедшего может подвергнуться метаморфозе, но по-другому было нельзя.
Мы шли по тихой аллее.
— А где Таня?
— В школе.
— Ах, да. Сегодня будний день.
Она набрала по рецепту горсть таблеток, выпила по одной, запивая чаем. И предложила позавтракать.
— Ты можешь сейчас есть?
— А почему бы и нет?
— Что ты чувствовала, когда подействовал наркоз? Или лучше расскажи обо всем по порядку.
— С какого места? — она улыбнулась.
— С того, когда тебя пригласили войти в эту дверь.
— Давай поедим, и я тебе все расскажу.
Я подумал о еде с омерзением. Любая мысль о пище вызывала тошноту.
Настя подогрела котлеты с макаронами, и я, давясь, съел все же одну. Ото всего остального отказался. Правда, попил чай с мятой.
Она попросила меня об услуге. У нее были лекарства, которые следовала принимать ректально. Я должен был сделать это. Ее попа находилась прямо передо мной. Я держал свечу и вспоминал стихотворение "Венера Анадиомена", которое заканчивалось строками: "Где язва ануса чудовищно-прекрасна". Ничего прекрасного я не видел: сфинктеры были напряжены, кожа была покрыта мурашками и волосками. Пахло кровью, потом и еще чем-то физиологическим.
— Ну, глубже, глубже, проталкивай ее!
Я надавил со всей силы, и свеча вошла в анус под самый корень.
— Все? — с облегчением спросил я, думая, что если бы на месте свечи был половой орган, столь аккуратным сфинктерам не поздоровилось бы.
— Нет, не все, — раздраженно вставила Настя. — Смотри, как надо.
Она приставила палец к анусу, дотронувшись до края свечи и через секунду ее палец исчез в анусе, весь, полностью.