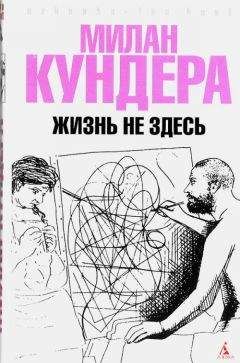Валерия Жарова - Сигналы
— Цыганку видели? — спросил Ратманов, когда они направлялись обратно в гостиницу. — В спектакле?
— Да, конечно, — сказал Тихонов. — Совсем как настоящая.
— Она и есть настоящая. Из Каменца.
В Каменце год назад выжгли цыганское поселение, обвиненное городскими активистами фонда «Без дури!» в наркоторговле; троих торговцев избили до полусмерти, остальные разбежались по области, но в Каменец уже не возвращались.
— Раскаялась типа? — спросил Дубняк.
— Да не очень. Они, вы знаете, в смысле покаяния не ахти. Но просто одному там… понравилось. Или жалко стало, или попользоваться… Ну, в общем, попользовался. Месяц прожила, потом все деньги из дома вынесла — и на станцию. Благодарность. Хорошо, сосед увидел, он ему брякнул — тот с работы сорвался и на вокзале перехватил. Побил ее немного, но она объясняет — голос крови. Простил. Через месяц то же, и еще квартиру подожгла. Ну, убивать он ее не стал, конечно, но поучил крепко. Видели — она садится не очень уверенно? Это до сих пор, а она тут с марта. Причем он честно мне сказал, что когда ее во второй раз бил — он очень большое удовольствие чувствовал, очень. Больше, чем во все предыдущее время. Я сам такого удовольствия не чувствую, но понять могу.
Он помолчал, и некоторое время слышался только скрежет.
— Вдобавок она беременная была, — сообщил Ратманов. — Но после такого — выкидыш, конечно.
— Евгений, — церемонно обратился к нему Савельев, почти все время молчавший. — Вы для чего рассказываете все это? Я просто не совсем понимаю, что именно вы хотите сказать.
Ратманов остановился.
— А вам неприятно, да? — спросил он с изысканной любезностью, не предвещавшей ничего хорошего. — Вы брезгуете людьми, да?
— Я не то чтобы брезгую людьми, — сказал Савельев. — Я не очень интересуюсь их делами, пока они меня не касаются. И если вы нам сообщаете все эти довольно грязные детали, вы, должно быть, что-то имеете в виду?
— Да так, — сказал Ратманов. — Просто чтобы вы понимали. Он привез ее ко мне сюда, и если бы я ее не взял — ее бы либо убили, либо посадили, либо она пошла бы кочевать, потому что прежние ее не приняли бы, конечно. И еще вопрос, куда прибилась бы. А здесь, как вы видите, она играет в театре.
— Я понимаю, — сказал Савельев, который Ратманова, казалось, вовсе не боялся. — Я уже понял, что у вас тут только те, кому некуда больше деваться. Но ведь это легко — быть хорошим для всех, кому некуда деваться. Для них любой, кто не добил, уже хороший.
Валя Песенко, который смотрел на все это в состоянии крайней подавленности и потому молчал вот уже три часа, — тут неожиданно для себя вмешался.
— Да ладно, Игорь, — сказал он; Валя всегда называл дядю только по имени, как старшего брата. — В каком-то смысле сейчас всем деваться некуда…
— Устами младенца! — воскликнул Ратманов и неестественно захохотал. До самой гостиницы разговор не возобновлялся.
7
Сырухин ждал их, прихлебывая слабый чай — или один из ратмановских излюбленных отваров, — и грызя крупные черные сухари.
— Мы хотели узнать, — осторожно начал Савельев. — Если вам не хочется говорить, то конечно… Но просто вы, я слышал, видели, как упал самолет. Я с него получил сигналы, там люди живы, я хочу их найти.
Сырухин молчал. Никто не решался его торопить.
— Ему повторять надо, — сказал наконец Ратманов. — Панург, я тебе разрешаю ответить. Ты видел, как упал самолет. Расскажи все про него.
— Ну, я уже тогда счета времени не знал, — тихо и сипло проговорил новокрещеный Панург. — Но Глеб еще живой был. Точно был живой. Он сказал: за нами самолет. И на другой день только… это… Он расстроился, видно. Что самолет упал. А я знал, что не за нами, я не расстроился.
— Это где было? — нетерпеливо спросил Ратманов.
— А вот как у сосны со знаками, там со знаками сосна, — охотно отвечал Сырухин, словно сосна эта была общепризнанным ориентиром. — От нее доседа, я думаю, будет километров восемь, я от нее потом шел. Уже Глеба не было, я съел его, — просто пояснил он. — Все не съел, но большую его часть я съел и еще немного нес с собой. Остальное там прикопано, вы можете видеть, если хотите.
— Подождите, — вмешался Тихонов. — Они ведь живы оба, спутники ваши. Их нашли, и они, наоборот, сказали, что это вы отбились. И теперь все думают, что это вас съели.
— Ну, сказать они могут что угодно, — пожал плечами Сырухин. — Но я их съел, это я вам могу чем хочешь, как хочешь…
Валя Песенко почувствовал, что либо его вырвет, либо он упадет в обморок. Как учили его однажды во время первой попойки, он сосредоточил взгляд на древесном узоре, на свежеструганой доске стола, и подумал, как хорошо было бы сейчас уйти в этот лабиринт, где нет ни печали, ни воздыхания, ни охотничьего каннибализма. Несколько раз он глубоко вздохнул, но почти не полегчало.
— Я их не убивал, конечно, — продолжал Сырухин. — Я с детства, это самое, мухи не… как это, хозяин?
— Не обижу, — строго напомнил Ратманов забытое слово.
— Это, да. На обиженных воду возят, — добавил Сырухин по внезапно всплывшей ассоциации. — Не подходи ко мне, я обиделась, обиделась раз и навсегда.
Он был очевидно и непоправимо безумен, в его речах не было связи, и он никого, конечно, не ел. С чего ему взбрела в голову эта адская фантазия — понятно: его бросили, он люто хотел питаться и в одиночестве, в полном помрачении решил, видимо, что съел попутчиков, как любовник в старом анекдоте: кровь на бороде?! — убил и сожрал!
— Как же вы их съели? — не удержался Окунев. — От чего они умерли?
— Они умерли, должно быть, от цинги, — неуверенно ответил Сырухин, — или от полного истощения, да. Мы заблудились почти сразу. Один раз чуть не вышли, но снова сбились. Нас что-то кружило там. Я это не могу сказать.
— Пили вы небось, — хмыкнул Ратманов, полагавший, что все пороки от безволия.
— Так кончилось быстро, — сказал Сырухин, сам словно недоумевая. — Потом патроны кончились, уже мы бить утку, гуся, еще кого бить уже мы не могли. Уже мы только друг друга могли бить, и некоторое время били. Потом Слава надумал ставить капкан на лося, но не было лося, или он не шел в капкан. Потом Глеб видел слона, как мамонт, но мы с ним сделать ничего уже не могли.
Совсем ку-ку, понял Савельев.
— И тогда Слава не проснулся однажды, Глеб не стал есть, а я стал. Глеб вообще Славу не любил, как бы брезгал. И вот потому, что он брезгал, он и погиб. Если бы он Славу ел, — с тем же недоуменным, вогнутым лицом продолжал Сырухин, — то он был бы жив, но он не ел, и я теперь один великий грешник.
Он привстал, зачем-то посмотрелся в зеркало, висевшее на стене, и быстрым лихорадочным движением почесал щеку. Видимо, у него нарос сложный комплекс обсессий и ритуалов, как у всех вечно виноватых людей.
Тихонов понял, что выпытывать подробности о съедении, которое вдобавок примерещилось, бессмысленно: надо было разузнать что-нибудь о самолете, эта информация явно хранилась в неповрежденной части сырухинского мозга.
— А самолет, какой был самолет? — настаивал он. — Вы тип не разглядели?
— Ну, это кукурузник был, — радостно ответил Сырухин. — Я это точно говорю, тут другие не летают. Кукурузник, во всех краях и областях Союза может давать урожай кукуруза. А с другой стороны, ну что такого, допустим, что я их съел? Уже все равно никакой жизни у них не было, так я себе говорю. Глеба с работы выкинули, у Славы язва.
— А где эта сосна? — не отставал Тихонов. — Ну, где вы самолет видели?
— Я говорю же, восемь отсюда километров. На ней знаки, вы не пропустите.
— Это манси тут знаки рисуют, — вмешался Ратманов. — Отмечают для охоты.
— Но это отсюда на север, восемь километров на север, — повторил Сырухин. — Я дошел, потому что уже тогда съел. Там труднопроходимо, конечно, и все время горы, камни… Но тут везде так. В одном месте немного есть тропа. Охотничью я видел избушку, но она была пустая. Росомаха на меня напасть хотела, но тоже брезгала. И я тогда сюда пришел, — закончил он, и более конкретных указаний из него никто не вытянул. — Упал самолет у Лосьвы, — повторял он, — упал громко, хорошо упал.
— Отпустите Панурга, — сказал Ратманов. — Устал человек.
— А хоть вкусно было? — вдруг спросил Дубняк.
— Невкусно, — честно ответил Сырухин. — Соли мало, вообще жестко.
8
В полночь, когда прочие улеглись, а Ратманов избрал Окунева для последней аудиенции, Игорь Савельев установил рацию на столе и попытался поймать новые сигналы.
Пеленгатор молчал — никто в радиусе трех километров не работал на рации. Эфир, напротив, жил бурно и повседневно, словно никакого крепостного права не существовало в природе. Милиция в Перове ловила трех хулиганов, разбивших витрину на улице доблестного подпольщика Корсунского. Начинающий любитель из Читы интересовался, как собрать радиомаячок для кошки. Киров и Сыктывкар обсуждали, с помощью какого устройства и на каком расстоянии снимали переговоры в «Анатомии протеста».