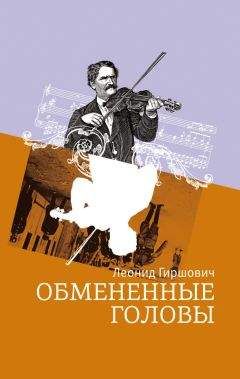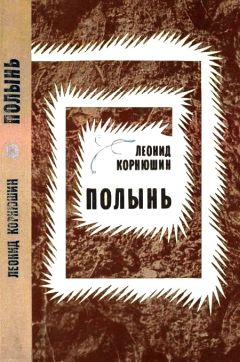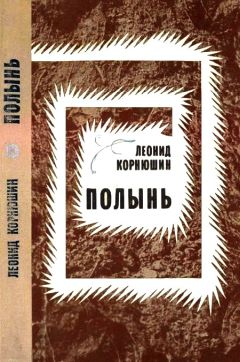Леонид Гиршович - Шаутбенахт
Кварц Шварц пил, и были ему эти рюмочки, что слону дробина. Да тут еще мысль о предстоящем рандеву.
Девочки пили и пьянели тоже по-разному, но у них это получалось как-то по-своему, по-женски. Геня на подмостках многотысячного театра вдыхала аромат искусственной розы. Лиля выпивала буднично: хозяюшка, пьющая следом за хозяином.
— Но, Нолик, дети! Как же без детей! — воскликнула Геня. — Дети это же всё.
— Генечка, вы превратно меня поняли, я не против того, чтобы мужчины имели детей, я против того, чтобы они имели жен… — Геня сделала такие страшные глаза, что у Нолика душа ушла в пятки, во всяком случае, он укатил на попятный двор: — Разумеется, это мнение одной стороны. Не вредно выслушать и другую. А что Иланочка думает?
Лиля была настроена весьма решительно.
— Я бы очень хотела иметь ребенка, воспитывать его. Вот Пашка, какой золотой ребенок, и не видно, и не слышно его.
Отвлечемся ненадолго. Пашка в самом деле был золото. Заточенный в родительской спаленке, он смиренно нес бремя своего обязательства. «Такова селяви, — как сказала бы Геня, — за минуту удовольствия платишь по расценкам хай-сезона». А Пашка еще пытался продлить наслаждение сверх отпущенных ему сил — что в характере человека, — продолжая есть конфеты, когда ему уже совершенно этого не хотелось. Предварительно он выстраивал их в боевом порядке. «Гумми-яин» и «Элит» были сирийцами и египтянами. Наши цукаты в шоколаде побеждали на обоих фронтах. Танки со звуком «уджж» проносились по родительской простыне, оставляя на ней следы. То один, то другой взмывал в воздух и пикировал на врага. Но победители несли и самые большие потери…
После того как все три армии были разбиты, Пашка продолжал издавать «уджж». Тяжко раненный в живот, он корчился на поле битвы, но в лазарет не шел, терпел.
— Если б я писал книгу для детей под названием «Честное зерцало», — сказал Нолик — то первый пункт гласил бы: «Детина, изыди».
— Да, — горячо поддержал Кварц. Кто-кто, а уж он-то знал, какая это досадная помеха — дети. — У ребенка должен выработаться условный рефлекс: собрались взрослые — марш к себе.
— А вы еще и физиолог, Кава. Не ожидал.
Кварц был польщен.
— Ну, а что… в самом деле… вот мой парень — воспитан же.
Стали хвалить Пашкино воспитание, всячески подчеркивая в этом заслугу матери. Геня снисходительно кивала, она мнила себя докой по части воспитания детей, в особенности полового, которому придавала особое значение. Здесь у нее имелись разные теории. В частности, считая необходимым приучать сына к виду тела, она ходила по квартире голая.
Только упала под стол вилка, как в дверь не преминули постучать — по-свойски, по-коммунальному.
— Воткнитесь! — зычно крикнул Шварц — по обыкновению, дверь была не заперта (коль Исраэль — хаверим).
Соседка зашла вернуть «милиционера с ВДНХ» — красно-синий жестяной параллелепипед. «Куда поставить?» Что обычно выражают лица попавших в атмосферу чужого веселья — то и выражало ее лицо: смесь брезгливости, превосходства и некоторой зависти. На неуверенное «может, посидишь?» ответила: «Как-нибудь в другой раз».
С ее уходом комплименты по адресу Гени продолжились. «Мать года», «Макаренко в колготках», «Геня гений». Лиля брякнула ни к селу ни к городу: «Не та мать, что родила, а та, что воспитала».
Нолик взял ее руку в свою:
— Умница, — и гладя ее руку, пропел Борису: — Как бык шестикрылый и грозный, мне снится соперник счастливый.
— Пение есть облагороженная рвота, — сказал Борис. Это были его последние слова. В следующую секунду он повалился на Лилю, которая завизжала. Хромолитография: «Девушка и мышь». Затем оба рухнули на пол. Хромолитография: «Падшие создания».
— Ююууум!.. — просигналила Геня, всем видом своим, поджатыми губами и заведенными к потолку глазами говоря: этого еще не хватало. Кварц ограничился кратким «опс!». Нолик сохранял ковбойскую невозмутимость:
— На вас, Иланочка, кажется, что-то упало?
Лилю из-под Бориса вызволяли: плита, настоящая плита. Сколько раз Бориса отваливали, столько раз он возвращался в прежнюю свою позицию.
— М-да, наш девиз — упругая пассивность, — заметил на это Нолик.
— Кавка, — сказала Геня тихо, — его надо в Пашкину комнату. (Можно сказать, все шло по плану.)
Без лишних слов Кварц подмел своим однополчанином пол: он был в ярости. «Сейка» на запястье показывала половину шестого, тремпистка, похоже, накрылась плащом — но нам его не жалко, ей-Богу, не жалко. Нам жалко Лилю: перепугалась, сломала ноготь, поехал чулок — до сего дня ни разу не надёванная пара. А прическа… Чем она краше и мудреней, а уж Лиля постаралась, тем неприглядней бывают последствия природных катастроф, от которых застрахованы разве что бритоголовые леди из Меа Шеарим[25]. На Лилином месте другая давно бы уже разревелась с досады, наша же мужественная девушка только тяжело вздохнула — и направилась в ванную.
В ее отсутствие Геня, отвечая на нескромный Ноликов вопрос, вполголоса поведала печальную историю совращения Лили банковским клерком:
— Для него это был потом такой стыд, такой стыд… Неудивительно, что он сам же стал вставлять ей палки в колеса. И ведь хорошая неглупая девочка, — прибавила Геня самодовольно. — Умнее многих мужиков.
— В отличие от тех, кого вы называете мужиками, она не может себе позволить быть глупой.
Если бы Геня держала в руках сложенный веер, она бы игриво шлепнула им Нолика. Но у нее в руках была вилка, на которую она не менее игриво накалывала тончайшие мясные волоконца и вермишелевых червячков, то там, то сям поналипших к донышкам тарелок. «Все было выпито и съето» — мнимая цитата, — кроме десерта.
В продолжение сказанного Нолик пустился в рассуждения о женщинах с физическим изъяном:
— Некоторые считают, что уродливые и калеки доступнее, рады всякому, кто их поманит. Глубоко ошибочный взгляд. Они страшно недоверчивы, во всяком случае, по сравнению с теми женщинами, для которых мужская любовь, как ежедневный утренний душ… — Это была колкость, но особого рода, когда и не ответишь-то. По некоторым признакам и на исторической родине Геня держалась правил гигиены, что приняты на родине слонов.
Воспламененный своими пылкими филиппиками по адресу тех, кто под покровом темноты пристает к хроменьким и обваренным, Нолик разразился горячим панегириком самому себе. (Панегирик, воспламеняющийся от филиппик. Мы сознательно устроили очную ставку этой паре иностранцев, столько лет безнаказанно морочивших нас своим появлением в совершенно противоположных контекстах. Так одного и того же человека попеременно видишь то за рулем восемнадцатого автобуса, то продающим халву на рынке. Прикажете предположить, что «он» — это попросту двое близнецов?)
— Я бы никогда не позволил сатиру в себе восторжествовать. Я бы никогда не позволил отвлеченной чувственности предварить чувство, внушаемое конкретной женщиной. Поэтому я всегда бросался на приступ таких илионов, несокрушимость которых общеизвестна. И всегда дерзко карабкался по их стенам, причем еще не случалось такого, чтобы дерзость моя не была вознаграждена.
— «Я всегда, я никогда», вы что, абсолют? По-моему, вы уже заговариваетесь, — грубо оборвала Нолика Геня. Он стал ее раздражать — после того, как упомянул про утренний душ. — Что он там нес (подразумевался Борис), что его сейчас вырвет?
— Глубокочтимая Евгения Батьковна, прежде всего я не заговариваюсь, а заговариваю вас, а это, как говорят в Одессе — а я, да будет вам известно, рожден в Одессе, — две большие разницы. Что касается господина Бориса, вашего гостя, то ковров ваших он пятнать вроде бы не собирался. Господин Борис сказал только, что мое пение есть облагороженная рвота.
У Гени оборвалось сердце. Все. Нолик оскорбился. Нолик сейчас уйдет и больше никогда не придет. Кончилась дружба со знаменитым бардом Арнольдом Вайсом.
— Ах, какой дурной, Боже, какой дурной! Это же надо такое сказать! Да сам он рвота… Вы, конечно же, не обиделись на этот фрукт…
— На фрукт — нет.
— Ну так в чем же дело, откуда эта мрачность? Вспомните, машер, о своей гитаре да спойте. — Душевно наморща нос и тряхнув волосами. — Спойте, машер! Вы и песня неразлучны, как Ром и Ремул.
— А это еще что за звери такие?
— Ром и Ре мул, Но-о-лик…
— Ром и Ремул, — проворчал Нолик, — Ланин и Стелин.
— Нолик… Вы. Меня. Разыгрываете!
— Розыгрыш кубка. Ладно, так уж и быть, спою.
Здесь надо открыть один маленький секрет: Нолику гораздо больше хотелось петь, нежели Гене слушать. И так бывало всегда. В гостях Нолик с нетерпением искал случая уступить настойчивым просьбам своих почитательниц и что-нибудь для них исполнить.