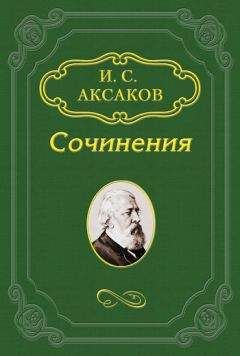Васко Пратолини - Постоянство разума
Словом, хоть и не во всем схожий, но такой же трактир, как тот, где я познакомился с саперами: память всегда связывала с ним заведение Чезарино. Теперь эта траттория вошла в моду. Ее обновил Армандо, хотя сам он изменился меньше кого-либо из ребят. Конечно, он может называть своих родителей, синьору Дору и папашу Чезарино «бедными стариками», но вынужден тут же добавить: «Не так уж трудно оказалось убедить отца продать вон те три участка земли и вложить деньги в дело».
Прилавок сохранили, во-первых, ради оригинальности, во-вторых, пришлось посчитаться и с тем, что тут уж Чезаре Букки не уступил бы ни на йоту: стоя без пиджака, в жилете и фартуке, он упорно пренебрегает новыми посетителями ресторана. Поверьте, его просто радует, когда женщины из ближнего квартала Кастелло забегают вечерком купить сто граммов ветчины, бутылочку сока «омо» или «эйр-фреш», сталкиваясь у входа с синьорами в норковых манто.
Снаружи, где прежде горела всего одна лампочка, теперь соорудили светящуюся арку, а прежняя надпись мелом по оконному стеклу «Готовые макароны в соусе», с искривленной буквой «н», теперь превратилась в красно-голубую рекламу из неона «Траттория „У лисицы“. Жаркое на вертеле! Заходите к Чезарино».
Скатерти на всех столиках, на каждом зажженная шика ради свеча. Внутри все оставили по-прежнему, только заново побелили, подчеркнув деревенский стиль заведения, который прежде пытались замаскировать. Под сводами какой-то случайный художник в незапамятное время намалевал пейзажи, изображающие гору Морелло и Горэ, они теперь красовались там, откуда Чезарино с тяжелым вздохом снял лубки, изображавшие плачущих и смеющихся картежников; раньше на самом видном месте висела картинка, изображавшая шулера, который передает при помощи пальцев ноги решающую карту одному из игроков. До того были загажены мухами эти лубки, что однажды дело дошло до вмешательства санитарного надзора. «Они тут всегда были», – защищался Чезаре. Теперь он, сжав кулаки, возводил глаза к небу: «Смиряюсь!» Подобно спущенному флагу, сошли со своих привычных мест реклама пива Пашковского, марсельского мыла, воска «эврика» и даже надпись угрожающего содержания: «Не плевать. Непристойные выражения воспрещаются».
Армандо пробил стену, устроил застекленный переход во второй зал, большой, просторный, пригодный и для банкетов: зимой там тепло, летом прохладно. (Тут прежде был хлев, где мы впервые узнали женщин.)
Кухня, тоже просторная, теперь выставляет напоказ огромный вертел и по-прежнему полное, разгоряченное огнем, терпеливое лицо синьоры Доры, которая бдит у очага. Помогают ей обе дочери, поступившие в подчинение к Армандо вместе с мужьями-официантами. (Прежде они обрабатывали участки земли, прилегающие к трактиру. Крестьянин легко становится официантом, у него к этому склонность.) За стеклом виден садик, сюда в теплое время года выносят столики, а раньше здесь был ток и стояли клетки с кроликами, курятник, пчелиные ульи, а дальше начиналось поле, окаймленное стогами сена, – задний план этой сельской сцены.
– Раньше здесь, понимаешь, была избушка на курьих ножках, – говорит Армандо. – Ну, а теперь я дам сто очков вперед даже загородному ресторану «Гомер».
– Тут куда лучше, чем у Цокки в Пратолино!
– Лучше даже, чем в той крытой стеклом траттории, которую Сабатини в июле открывает на Виа-де-Панцани, верно?
– Лучше, – отвечаем мы хором.
– Ну ее к… ребята, – не выдерживает Армандо. – Немного денег я из нее выколачиваю, но знали бы вы, сколько это стоит крови и пота.
Уж верно, что он никогда не станет таким, как тот, Лучани.
Для большинства людей полдневный гудок – всего лишь показатель времени, однако школьников он срывает с парт, рабочих отрывает от фрезерных и токарных станков. Одни добрались до середины рабочего дня, для других с делами покончено: уроки готовят дома после ужина или утром до завтрака. Покуда мы складывали тетрадки и выстраивались в ряд, Милло успевал вытереть руки, натянуть куртку на молнии, сесть на велосипед и проехать полкилометра, отделявшие завод от школы. Я обнаруживал его за кучкой матерей, ожидавших у выхода самых маленьких. Одна нога на земле, другую он так и не спускал с педали. Я быстро вскакиваю на свое место. Ловкий прыжок вознаграждает за разлуку с Дино, которому я вынужден сказать:
– Пока! Значит, встретимся вместе с Армандо у тростников.
Не успеешь как следует устроиться, и мы уже мчимся. Стоило мне чуть сдвинуться с рамы, как Милло тотчас выправлял дело, награждая меня подзатыльником.
– Ну, как делишки? – спрашивал он. Шлепок, который меня уже не сердил, или грудь, прижатая к моим плечам, подчеркивали его упрек или одобрение. Ехали мы быстро. Вклиниваясь меж двумя рядами машин, обгоняли трамвай на повороте у площади Далмации, возле виа Реджинальдо Джулиани, которую заливали асфальтом. Хотели выиграть минуты и даже секунды. Мы приезжали к Чезарино в двадцать минут первого или в восемнадцать минут двадцать секунд, восемнадцать минут и сорок секунд. Покуда Милло не купил мотоцикл «бенелли», наше рекордное время составляло 15 минут 18 секунд: хронометр, все тот же, что и теперь, соврать не мог. Мы даже установили этот рекорд в дождливый день. Потом смеялись:
– По мокрой дороге трудно ездить, зато транспорта меньше. – Я сидел, надвинув на лоб капюшон плаща, но вода все равно попадала в глаза: лицо было мокрое, носки и ботинки в грязи. – Давай! Жми! – кричал я, охваченный восторгом.
– Что мать скажет, когда тебя увидит? – говорила синьора Дора. – Поди сюда, приведи себя в порядок!
Милло в это время снимал берет и, как всегда, причесывался у зеркала в кухне.
Чернорабочие и крестьяне, потягивавшие вино, подходили к нему, перебрасывались оживленными репликами: политика, дела профсоюза. Милло усаживался, поддерживал разговор, ел. Казалось, он просто заглатывает еду, хотя на самом-то деле все как следует разжевывал; я еще возился с супом, когда он кончал обедать. Шел ли дождь, светило ли солнце, но уезжал он ровно в час без 6 минут 30 секунд, выпив кофе и закурив сигарету.
– Сирена зовет нас! – говорил он.
Тогда на его место садился Армандо.
– Ты знаешь, что я открыл? – спрашивал он. – Знаешь, что я нашел? Угадай.
Дино и я подросли, а он оставался все тем же крестьянским пареньком из предместья, которого мы заставляли таскать у отца сигареты. Мы любили над ним подшутить: купаясь, топили в речке, уверяли, что заноза не дает шагу сделать, и он переправлял нас на другой берег, взвалив к себе на спину. Он был ниже ростом, но сильней нас, ему пришлась по душе наша удаль, а значит, и наши командирские замашки и наши насмешки. Он видел в них нечто само собой разумеющееся и как бы отдавал должное нашей сообразительности. И все же он был хитрец, а не тупица. Мог, например, подолгу скрываться под водой, хоть и нырял без маски: улучив время, хватал нас за ноги и заставлял нахлебаться той речной водицы, которую мы предназначали ему; за табак, украденный у отца, заставлял нас решать задачки по арифметике. Он первым овладел Электрой, это было, когда у нас еще молоко на губах не обсохло.
– Я нашел лису! Знаю нору!
В те дни Иванна уходила в утреннюю смену и возвращалась не раньше трех-четырех; придя с работы, она усаживалась за наш столик, в углу подле кухни, у самой двери, ведшей к току. От нее пахло духами, она казалась элегантной. Сев за столик, она спрашивала:
– Чем вы меня покормите, синьора Дора? Только что-нибудь полегче, я смертельно устала.
Она трепала меня по щеке, приглаживала вихры:
– Не вертись! Дядя Милло тебя проводил? Что ты ел? Ты что-то бледный, потный весь – на себя не похож.
Она закуривала сигарету, втягивала дым, загоняла его в ноздри, а потом, приоткрыв губы, пускала колечки:
– Да, конечно, синьора Дора, чашку бульона. – Словно все еще в кассе, словно все еще за витриной, она выставляла себя напоказ шоферам, которые в этот час обедали за другими столиками.
Сбросив школьные халаты, мы с Армандо выскальзывали из траттории под доброжелательными взглядами синьоры Доры, сторонкой обходили зятьев, которые взрыхляли землю мотыгой, шагали за плугом, удобряли почву сульфатами, пололи сорняки, поили скот, косили травы и сено. Потом мы извилистыми тропками добирались до речки, где нас поджидал Дино, теперь уже втроем карабкались на косогор Монтеривекки: здесь тополиные аллеи и оливковые рощи сменялись молоденькими, невысокими кипарисами, берег был усыпан камнями, ноздреватыми и шуршащими, как пемза; наконец мы оказывались у оврага, над которым, словно атомный зонт, возвышался огромный дуб. Здесь была лисья нора. Армандо был нашим главным егерем. Вел он себя соответственно, и мы преисполнились к нему уважения. Он колышками обозначил путь от самых корневищ дуба к норе, которую не так-то просто было обнаружить в щели между валунами, за лужайкой. Вооружившись заостренными кольями, мы поползли к норе, обдирая пальцы о сучья и кусты ежевики; капельки крови тотчас же впитывались в землю. Затаив дыхание, бесшумно продвигались мы сквозь заросли можжевельника и вереска. Теперь экспедицию возглавлял я, Армандо замыкал шествие; мне то и дело приходилось оборачиваться, и он кивком головы указывал мне путь до следующей вехи. В долине раздавалось эхо выстрелов, доносившихся с полигона в Терцоллине. Мы замирали, боясь, как бы вспугнутая ими хитрая лиса не сбежала. Оборачиваясь, я встречал восторженный взгляд Дино.