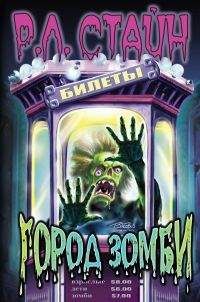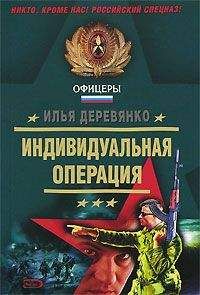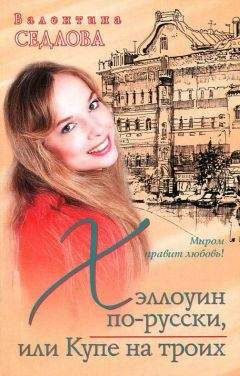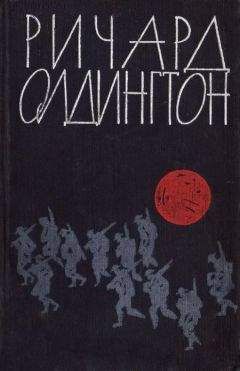Олеся Николаева - Любовные доказательства
Особенно симпатичным показалось вот это:
— Скажите, сколько стоят у вас
хлеб, молоко, смоквы?
— Они стоят того, чтобы обессиленный
человек перевел дыханье.
В конце этот текст спрессовывался в компактное, вполне традиционно написанное стихотворение с рифмовкой abab, каждый изгиб которого мог быть прокомментирован предварительным материалом. Что-то было в этом эдакое, необычное. Колорит, аромат какой-то. Ах, эти смоквы!.. Но — мертвовато. Акрополи. Махаоны. Залитературенно. Без судьбы, нерва.
Жаль, он сам не догадался такую штуку написать. Эта шелуха, сор всегда очень любопытны. У него бы получилось живее, парадоксальнее. Конспект творящей души. Когда пишешь, к тебе, как мотыльки на огонь, слетаются все впечатления, все образы твоей жизни.
Огорчился. Да ведь если даже этого «Усталого скрипача» в другую сторону, вспять раскрутить — сколько бы всего открылось! Это только так кажется, что поэт пишет лишь на листе бумаги. Он пишет постоянно, всегда. Он все фиксирует. А потом — за письменным столом — только отбирает. То, что работает на целое стихотворение. Остальное — в мусорную корзину. А ежели в ней порыться!.. Хотя, наверное, он никогда бы не посмел утруждать этим внимание читателя. Иностранцы тоже много ценного, с нашей точки зрения, выбрасывают. А наши нищие роются и вытаскивают из помойки. А потом пользуются. Он поморщился. Есть в этом что-то нечистоплотное, плебейское даже. А стихотворение без этого приема немного стоит. Так, достаточно культурное любительское творчество. Да ведь раньше всех, всех обучали этому в дворянских семьях! Чтоб барышням в альбом хоть что — хоть сонет могли написать, юбиляра в рифму поздравить, преподнести эпиграмму.
А из Союза писателей так и не позвонили.
На следующий день с паспортом и фотографиями направился в Иностранную комиссию. Крепко подумав, решил, что его личные отношения с отечественными организациями не должны давать повод для обиды бельгийским устроителям. Поборов гордыню, он ткнулся в одну дверь, ткнулся в другую… Все было заперто. Наконец в комнате в конце коридора он застал нескольких женщин.
Объяснил ситуацию, спросил, можно ли оставить документы у них. Они сказали: ни в коем случае, надо отдать тем, кто занимается оформлением, а они уехали в МИД и сегодня уже не вернутся. Он почувствовал вдруг такую сильную обиду, такое унижение, что аж в глазах защипало. Держа в руках паспорт и фотографии, он выбежал на улицу и хотел было даже разорвать в клочки никчемные карточки, словно они служили уликами против него там, в небесном отделе расследования: суетился, фотографировался, приперся, высунув язык, принес!.. А они уже без него все решили. В МИД уехали. Получилось, что он своей нерешительностью только подыграл им да еще и унизил себя тем, что самолично, без повторного звонка царапался в их закрытые двери.
А ведь, как назло, так хочется в Бельгию! Он никогда там не был, там, говорят, изумительные музеи живописи, великолепная архитектура, парки! На праздник поэзии съедутся поэты из всех стран. Можно было бы познакомиться с интеллектуалами из Франции, Англии. Если бы он произвел на них впечатление, они могли бы пригласить его в следующий раз в свои страны. И вообще — он привез бы Марьяне подвенечное платье и так бы решил запутанную проблему. Без объяснений. Одним жестом. А теперь и эта единственная возможность упущена.
Хотел было зайти в Дом литераторов выпить кофе, но увидел, что на ступеньках стоят два знакомых поэта, и рукописи обоих, как нарочно, им еще не прочитаны. Поэтому он резко повернулся, чтобы не быть замеченным, перебежал через дорогу и отправился домой, потому что он был не обязан приходить в журнал каждый божий день.
Назавтра ему позвонили с телевидения. Попросили сделать о нем сюжет. Он спросил замирающим недовольным голосом: что еще за сюжет?
— Вы нам расскажете о себе, поделитесь размышлениями о времени, о стране, о культуре. Почитаете стихи. Мы хотим вас снять в интерьере и в пейзаже — в рабочем кабинете и где-нибудь в садике, на фоне какой-нибудь старой церкви.
— Нет, нет, — звенящим голосом отозвался он. — Это не в моих правилах. Я не занимаюсь саморекламой.
— Помилуйте, какая реклама! Маленький сюжет о вашей поэзии.
Тогда согласился, обдумывая, не слишком ли получилось поспешно. Бросил трубку, заметался. Стихов своих наизусть не помнит — значит, надо учить. Читать их не умеет. Надо порепетировать. В рабочем кабинете, который у него и гостиная, и спальня, у него так все убого и малоинтеллигентно, что и это проблема. Не Марьяну же просить, не в Валеркином же кабинете! А может, пусть они видят, в каком поругании проживает поэт, будто в вечной эмиграции. Внутренней. Вот.
Решил рассказать им о внутренней эмиграции. Об истинном и ложном. О дутых ценностях. О ложных идеалах. О моде на любую чрезмерность — от кривляния до княжеского титула. О пошлости, которая разрушает культуру. Надо же, нашли его все-таки! Откопали. Другие вон покупают киносъемки, а его упрашивают, настаивают…
Только вот что надеть? Скромненькую серенькую водолазку? Или черную? Он вспомнил про пастора. А пиджак? Нужен, нет? В пиджаке приличнее, но и официальнее. Смотря чего они хотят. Или — свитер: спортивный стиль? А какие брюки — от костюма или вельветовые? Пожалуй, вельветовые слишком новые и модные — получится, будто он специально вырядился для съемки, слишком много значения ей придает. Может, джинсы? Пожалуй, слишком потертые. Как бы нарочитое такое пренебрежение — чересчур хиппово. Это не его…
Спросить бы Марьяну, это ведь из ее области. С другой стороны, не хочется так уж демонстрировать ей свое волнение, свою обеспокоенность передачей. Лучше пусть он, когда узнает день и час, придет к ней с вином, с цветами, скажет так небрежно, как бы невзначай: «Может, включим на минуту телевизор, такая-то программа». — «А что там?» — «Так, кое-что забавное», — неопределенно ответит он. Она включит, вскрикнет, прильнет к экрану. А он будет сидеть вполоборота, бросать беглые взгляды и потягивать хорошее вино.
Остановил выбор на черной водолазке и черных брюках. Для улицы предпочел черный плащ, несмотря на снег. Догадался, что может принять телевидение у себя в редакции. Сам справился с этим клубком.
Приехало пять человек. Два режиссера — Оля и Валерий, оператор, звукооператор, осветитель. Передвинули стол, кресло, расставили по его редакционному кабинету приборы. Покрутили, повертели Чичерина, усадили, поставили у окна. Оля сразу разобралась.
— Видишь, какой у него имидж? Интеллектуала, — сказала она Валерию. — А ты хотел его во дворике на детских карусельках снимать. Знаете, кого вы мне напоминаете? — обратилась она к Чичерину. — Боратынского. Типаж, я имею в виду. Это и попробуем подчеркнуть.
Он почувствовал приятное смущение, поплыл, поплыл… Он не мог понять при чем тут Боратынский: на уровне черт, облика — ничего общего. Абсолютно мимо. Но, видимо, она уловила какое-то существенное сходство — эту хладнокровность, внутреннюю закрытость, за которой таится ранимая чувствительная душа.
Ему было приятно участвовать в этом «подчеркивании». Он послушно передвигался по ее знаку, глядел именно туда, где она щелкала в воздухе сухими нервными пальцами: глаза, глаза! Сидел неподвижно, уставившись в одну точку, когда она приказывала: так, бессловесная пауза. Крупный план.
Когда все кончилось, Оля хлопнула в ладоши, сказала:
— Великолепно! Достойно. Содержательно. Я и не подозревала, что сейчас кто-то может еще так тонко и глубоко мыслить, писать.
Режиссер Валерий, скрестив на груди руки, мрачно кивнул. Чичерин покраснел, стал отнекиваться, скромничать: ну что вы! Она настаивала. Попросила у него книгу — почитать. Она отдаст через несколько дней.
— Это мой лучший сюжет, — призналась она на прощание. — Валера, я так тебе благодарна за твою идею.
Чичерин не без уважения окинул взором внушительную фигуру Валерия, запаянную в глухое кожаное пальто. Тот прикрыл глаза и чуть усмехнулся.
— Видно, это настоящие профессионалы, — рассказывал он вечером Марьяне.
Велюровое кресло цвета сухого песка приятно пружинило под ним, зеленое сукно стола одобрительно внимало происходящему.
— А на сколько времени получилось? — спросила Марьяна.
— Снимали в нескольких местах — и стихи, и рассуждения. Целая передача.
— Как бы не вырезали…
— Так они сказали, что это — лучший сюжет, — почему-то обиделся он.
Она махнула рукой:
— Они всем так говорят. Кому ты веришь? Это ж телевизионщики.
Он насупился. Ему показалось, что сюжет действительно удался. Марьяна, видимо, просто ревнует его, ну, к известности, к славе. И хорошо. Пусть чувствует, что он независим, он — сам по себе.
— Поработал в эти дни. Несколько стихотворений написалось. Пока сидел над ними, у меня появилась очень любопытная, даже оригинальная идея. Что, если написать такой текст, который включал бы в себя всю предварительную работу над стихотворением, все подходы к нему, все варианты? Фактически это было бы описанием процесса творчества, которое бы увенчивалось готовым стихотворением. Оно постепенно бы выходило из этой пены, как Афродита…