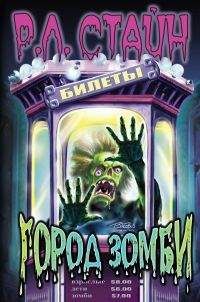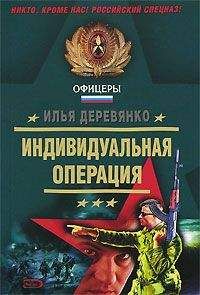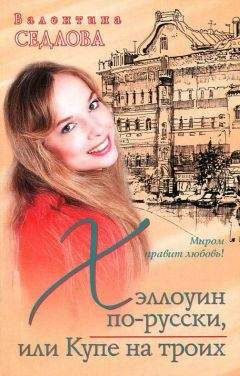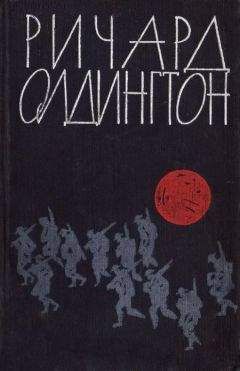Олеся Николаева - Любовные доказательства
Интересно бы взглянуть на мир глазами голубя. Может быть, в прежней жизни он был человеком, а Чичерин в будущем перерождении станет птицей, и они поменяются местами. Мелькнула мысль написать нечто, что называлось бы «Глазами голубя». Про то, что для разных существ наше «я» предстает в разных обличьях, в разных образах. Помешала строчка Евтушенко: «Я — разный». Забила все остальное. Стало противно.
Марьяна бы, конечно, нафантазировала сейчас за этого голубя — так бы расписала! Ей легко. А он блокирован чужими словами. Ему нужно искать лабиринт, маневрировать между скалами. Нет, она для него — идеальный вариант. Лучше бы уж она вовсе про этот кабинет не говорила! Теперь может получиться, что он на этот кабинет, простите, позарился. Какая низость! И ведь если сейчас он поедет к ней и скажет: Марьяна, будь моей женой, то ведь сам же про этот кабинет думать будет. Будет думать, что не потому женится на Марьяне, что кабинет. Будет думать, как бы она не подумала, что он женится, потому что кабинет…
Хорошего же она о нем мнения! Нет, она-то о нем как раз хорошего мнения, и думать она так, конечно, не будет, но мелькнет, мелькнет все же и эта мысль…
А если сказать: будь моей женой, но с условием, что не я к тебе перееду, а ты ко мне? Обрадовался. Вскипятил чайник. Пока он закипал, представил себе Марьяну с двумя детьми в своем убогом жилище. Одному повернуться негде, а как жена молодая да еще с потомством? Так она сразу поймет, что здесь что-то нечисто, какой-то маневр. Тут кабинет этот проклятый и всплывает.
А если сказать: Марьяна и все прочее, и твердо настоять на том, что он будет работать только у себя в квартире? Жить у нее, а работать у себя, вот здесь. Тогда кабинет отпадет сам собой. Вздохнул облегченно. Заварил чай. Пока размешивал сахар, опять встревожился: она-то сказала, что его квартиру надо сдать. Как же он тогда будет здесь работать? Может быть, она намекнула, что он мало зарабатывает? Так он — человек холостой, аскетичный. Ему на себя денег хватает. А тут — жена, дети. Живут они на широкую ногу — Марьяна вон на бензин сколько тратит. Значит, если он оставит квартиру за собой, ему придется заняться заработками. Устроиться еще на две, на три работы. Каждый день куда-то ходить, что-то там делать. Когда же самому-то писать? Жить будет у Марьяны, вкалывать с утра до ночи, своя квартира будет ему совсем не нужна, и ее можно будет сдать.
Но если ее сдавать, то зачем самому так убиваться, так гибнуть за металл? Он может себе позволить заняться собственным творчеством. Но где — квартира-то его занята! Ответ: в Валеркином кабинете. Описав круг, он ударился с размаху в закрытые двери.
А из Союза писателей все не звонили. И «Усталый скрипач» — непонятно, что там с ним. Да и аналогия, скорее всего, ложная: эти музыканты играют уже по написанному, они скорее напоминают чтецов, артистов. А он должен, напротив, забыть все и сказать так, словно это говорится впервые. Сочинить. Описать неописанное. Выразить невыразимое. Поэтому он ничего и не знает про скрипача — ложен был импульс и неверен путь.
Засел за рукописи. Чует его сердце — завтра же начнутся звонки: старик, ну как, ты прочитал? Хорошо бы сейчас уехать куда-нибудь, да хоть в эту треклятую Бельгию. Куда еще? Дома творчества почти все позакрывали, да и там еще хуже: там свои поэты по тропинкам расхаживают, столуются трижды в день на одном пятачке.
А может, все было не так, как ему представили? Может, его-то именно и пригласили — приглашение-то на его имя, а это там, в Союзе писателей, решили подсунуть им Котищенко. Сказали — зачем вам Чичерин — это вчерашний день, возьмите лучше нашего авангардиста — представителя нового поколения. А они там, в Бельгии, им по факсу ответили: этот номер у вас больше не пройдет. Мы будем принимать только тех, кого мы приглашаем сами. А если приедет этот ваш авангардист, мы его завернем прямо в аэропорту. Это в былые времена вы присылали нам поэтов по «партийным спискам», а теперь — увольте. И тем ничего больше не оставалось делать, как скрепя сердце позвонить Чичерину.
А вдруг они теперь захотят воспользоваться его нерешительностью? Его неопределенным ответом? Телеграфируют в Бельгию, что он отказывается ехать, и опять ввернут про Котищенко. А те вяло ответят: ну что ж, раз Чичерин отказывается, давайте вашего этого. Фестиваль-то надо проводить. Как он об этом не подумал!
Достал справочник, отыскал телефон. Частые гудки. Ну вот. Небось обрывают уже котищенковский телефон. Он-то ни за что не откажется поехать вместо Чичерина. Он-то не станет медлить, отнекиваться: все принесет — и паспорт и фотографии. А как быть Чичерину?
Если он согласится, значит, признается в том, что они с Котищенко взаимозаменяемы, одним миром мазаны, одного поля ягоды, из одного теста. Если откажется, там в Бельгии могут обидеться: погнушался, мол, пренебрег.
Действительно, двоящийся стал мир, двусмысленный. Приходится говорить одно, а подразумевать другое. Потому что, если будешь говорить то, что подразумеваешь, тебя вообще превратно поймут. Подумают, что ты подразумеваешь нечто третье. Ну, приедет он к Марьяне, скажет: я не могу сделать тебе предложение, потому что боюсь, как бы ты не подумала, будто я это делаю из желания жить в Валеркином кабинете. Или скажет авторам: я не хочу вас печатать, потому что я сам так могу и даже лучше, но я не пишу, потому что понимаю — все уже до меня и вас было написано и нового ничего нет под солнцем. И они тогда, конечно, обозлятся, потому что народец тщеславный, вынут из его мысли лишь голую информацию о том, что он ничего не пишет, и извратят все так, словно он исписался, а им завидует.
Или позвонит он в Союз писателей, скажет: я сижу и жду, чтобы вы меня вторично пригласили в бельгийскую поездку, а сам я вам звонить не намерен, потому что это неприлично так сразу соглашаться, тем более когда это предложено в такой форме… Нет, так нельзя.
Он человек деликатный, воспитанный в лучших русских традициях. У него в роду были даже, кажется, какие-то дворяне. По материнской линии. И по отцовской. Он даже с тем, известным Чичериным, либералом, как-то родственно связан. Вроде этого Трубецкого. И предки его тоже, между прочим, пострадавшие. Ссыльные. Но он никогда не позволял себе на этом спекулировать. Аристократизм в том, чтобы его не показывать. Держаться хоть и с дистанцией, но просто. И ничего ни у кого не просить. Как в Евангелии: да-да, нет-нет.
А что ему пошло бы, так это, наверное, пасторское облачение: строгое, черное, опрятное. Именно протестантское. Православная борода уж точно не для него. Один раз отращивал — страшно вспомнить: рыжая растет, разноцветная. Пасторы, кажется, самые интеллектуальные из всего духовенства. Юнг вон тоже был протестант: взаимное уважение науки и религии, разума и веры… Хотя и не протестант он, впрочем, а вовсе даже и оккультист, язычник, а вот Трубецкой — тот наверняка православный, по старинке. Или вовсе безбожник — опростился там, опустился в этой Сибири. Ничем уже не отличается от других мужиков, разве что именем. И похваляется, что князь. Теперь это модно. Буровин — и тот под каким впечатлением: с князем на дружеской ноге, помигивает — «Ну из тех, из тех князей-то, из ссыльных». Лестное чувство причастности. Экзотика. Взял папку Трубецкого, открыл наугад.
Там среди прочих стихов было какое-то странное сочинение — как бы подробное описание процесса лепки стихотворения, всего этого мусора, сора, из которого оно растет:
Шелуха ореха, полые початки, целлофан,
оберточная бумага.
Это само по себе и был уже текст. Он на глазах обкатывался, в него прокрадывалась рифма, она становилась все четче, все фиксированнее, и, наконец, отсекалось все лишнее и оставалось голое стихотворение. «Занятно», — подумал Чичерин. Читал, перескакивая, выхватывая куски, за которые цеплялся глаз:
Облепили меня городские новости, вести, слухи —
язык ссоры на кухне, свары в подъезде,
площадные склоки,
жаргон последнего века. Я хожу и думаю —
а где закрытый акрополь?
Будем ходить вкруг да около, пока не отыщем входа.
Нас замесили на семи крутых глинах — бурой, алой,
кирпично-красной, фиолетовой, желтой,
терракотовой, темно-лиловой.
Только ударь вдохновенной рукой по кимвалу —
сразу такое, такое услышишь, такое!
Птичьи косточки, бусы, брошки, бабочки махаоны,
ресницы, сухие листья — весь этот прах и пепел,
прущий наружу, жаждущий воскресенья… Я ж умираю
над каждой такой вещицей и вспоминаю, где,
по какому поводу, когда ее обронили.
Соберите же, соберите эти обрывки, клочки, осколки:
выброшенное делается уликой.
Все, что зарыто, проходит землю насквозь,
выходя наружу.
На забитых кладбищах вырастает черный паслен,
сурепки и такие стрельчатые травянистые стебли,
которые не выкорчевать всей
отпущенной до конца жизнью.
Особенно симпатичным показалось вот это: