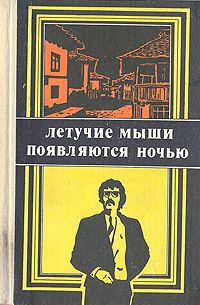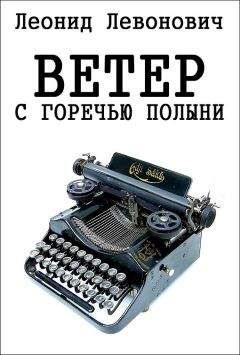Анатолий Байбородин - Не родит сокола сова
Не осмелившись спросить тетю Малину о своей тревоге, Ванюшка хотел, было, прошмыгнуть в огород, но тут его окликнула мать:
— Места себе не можешь найти?1 Вот отинь… Чем без дела и работы слоняться, отнеси-ка Сёмкиным, — она сунула парнишке глубокую миску, где с бугром были наложены одна к другой творожные и черемуховые шаньги, и накрыла постряпушки полотенцем. — Отнесешь, а потом дуй по щепки на пилораму, а то уж подтапливать нечем. Да миску-то с полотенцем назад неси, а то бросишь там, полоротый.
— Сама-то, — огрызнулся Ванюшка — с матерью он всегда был смелым: она ему, бывало, слово, он ей десять в ответ, так и ругаются, будто ровни.
— Я вот те счас покажу — сама! Мокрым полотенцем-то выхожу по голу заду.
— А я в город уеду, вот-ка! — заносчиво выкрикнул Ванюшка.
— Езжай, езжай, сгинь с моих глаз, идол, — махнула рукой мать. — Всё хоть одним мазаем меньше будет, — мазаем она, ругаясь, обзывала отца, но иногда и Ванюшку.
— Уеду и совсем не приеду, вот.
— Ладно, ладно, иди, не разговаривай! — сердито подтолкнула мать сына.
— Ну и пойду, чо толкаш-то?!
— Вот и иди себе. Миску-то не опрокинь, непуть.
— Сама-то кто?!
— Ой, парень, ты меня лучше не выводи! Без тебя лихо. А то ить не посмотрю на гостей, отвожу полотенцем, сразу у меня по-другому запоешь.
Ванюшка, не дожидаясь, когда материна рука поднимется на него, быстро пошел от летней кухни, прижимая миску к груди, успокаиваясь в сладком тепле, густо дышащем от постряпушек, окутавшем его, точно облаком. Мать еще крикнула вслед:
— Таньку не видел?
— Не видел, — раздраженно отмахнулся Ванюшка.
— Кудыть эта балда осиновая ушастала, хоть бы воды наносила да бегала потом. Ишь барыня, тут гости навалили, а она и глаз не кажет. Исть дак первая, а как пособить, не докличешься. У Сёмкиных увидишь, гони домой, а то сама приду, палкой пригоню. Шатующа корова…
12
Войдя в сёмкинскую ограду, Ванюшка тут же и увидел свою сестру. Танька напару с Викторкой Сёмкиной мыла и скоблила небольшой теплячок — может, от того, что и в сёмкинском доме, и в краснобаевском вечно топтался народец, шла нескончаемая гульба, а потом еще и поднималась домашняя ругань, страсть как любили девчушки отделяться, обихаживать на свой лад гнездышки, устраивая их то в тепляках, то в летних кухнях, а то и в пустых амбарушках. Вот и теперь они ладили себе жилье, при этом звонко выводили недетскую песенку:
Мы идем по Уругваю,
Ночь хоть выколи глаза,
Слышны крики: «Раздевают!..
Ой, не надо, я сама.
Когда раскрасневшаяся Танька выбежала в ограду с тазом и выплеснула помои под забор, Ванюшка сказал ей с ехидцей:
— Танька, домой придешь, мать тебе даст. Опять воды не наносила.
— Пусть твоя тетя Малина воду носит, понял! — Танька показала брату язык.
— Ладно, скажу: не хочешь воду носить.
— Только попробуй скажи, подлиза.
— И скажу.
— А иди-ка ты!..
Красная роза — любовь,
Белая роза — свиданье!
— затянула Танька прежде чем нырнуть в открытый тепляк.
Желтая роза — разлука,
Черная роза — прощанье…
Когда Ванюшка зашел в темную, с провисшим потолком избенку и подал еще теплые шаньги, Варуша Сёмкина, костлявая и чернявая, одиноко курившая у печи, заохала, завздыхала, не зная, чем и отдариться, заморгала одним глазом, поскольку другой глаз заплыл синью – видно, пьяный Сёмкин примочил. Бывало,светит лиловым фонарем с оплывшего глаза, а перед соседкой Аксинье Краснобаевой начинает оправдываться: «На ночь глядя выбежала в сенки…» Аксинья – баба умудренная жизнью, сама синяки нашивала – продолжает: «… Поскользнулась и упала, а в сенках лагушок с капустой, дак прямо глазом и о край…» «А ты, Ксюша, откуль знаешь?..». «Дак уже пять лет слушаю… Ты, соседушка, кадушку-то убрала бы, а то чо же, прямо на дороге стоит…» «И то верно…»
— Ой, спасибо тебе, Ваня, большо-ое-пребольшое, – запела Варуша. – И матери передай: спасибо, — она выложила шаньги на стол, хотела уже отдать миску с полотенцем, потом придержала ее, печально призадумалась. — Пустую посудину неловко назад ворочать, и положить-то нечего, — как на грех, шаром покати, — она суетливыми, чем сильно походила на Пашку, своего сына, темными глазами стрельнула в горничку, где, пьяно распластавшись на горбатом полу, с посвистом храпел хозяин, потом, немного пристыженная, виновато оглядела кухонку с печкой, закопченной у чела, краснеющей щербатыми, отставшими у шестка кирпичами, с пузато отпученными стенами, где там и сям отвалилась штукатурка и в проплешинах заголилась ребрами мало-мало подбеленная дранка; казалось, даже стены, несмотря на июньский зной, темнели сырой плесенью, — впрочем, и не мудрено, потому что старая избенка, сложенная когда-то из краснобаевского амбара, оштукатуренная изнутри и снаружи, не проветривалась, не дышала, отчего быстро набухла сыростью, насквозь прогнила и скособочилась. Хотя, сколько себя Ванюшка помнил, она всегда и жила в плачевном виде. Дух гнилости и плесени перемешивался с застойным запахом детской мочи и непроветренных матрасов, на которых вповалку прямо на полу спало многочисленное семейство, лишь для родителей имелась широкая кровать, шишкастыми козырьками чуть не достающая до провисшего потолка. Полотняная зыбка, привешенная к матице, тихо покачивалась у самого пола — в ней ворочался грудной ребенок.
Мимолетно оглядев свое некорыстное жилье, Варуша вздохнула привычно, после чего сразу же обреченно успокоилась, виновато поглядывая на буфет, где за мутноватым стеклом одиноко и желтовато посвечивали граненые стаканы. От буфета к сырому углу тянулись густые тенёта – седая паутина, откуда, словно из далекой, тайной глуби, жалостливо смотрела на Варушину жизнь Божья Матерь; а надпись на картонной иконке молила: утоли мои печали…
— Тетя Варя, а Пашка где? — спросил Ванюша.
— Беда я знаю,— ответила хозяйка, оставаясь в своих думах или утешном бездумье. — Где-то по деревне палит. Пашке чо, наелся, напился и в бега… Я попозже занесу миску-то, а? — похоже, она гадала, какой бы такой гостинец положить хоть на дно миски, как и требует того обычай. — Или Викторка наша потом занесет?
— Не-е, мама велела сразу принести.
— Да-да, праздник у вас, все плошки-ложки на счету. Ну, да ладно, — она опять вздохнула и стала раскуривать желтоватый папиросный окурочек, достав его из печурки. — Матери скажи, я к ней под вечер забегу. Может, помочь чего надо… Ну, глянулась тебе молодуха, тетя Малина-то? — улыбнулась Варуша, сквозь дым прищуристо глядя на Ванюшку.
Парнишка неожиданно покраснел и тихонечко, но твердо сказал:
— А меня в город с собой возьмут. Тетя Малина посулилась.
— Но?.. Совсем или погостить?
— Погощу, а ежли понравится, дак и останусь.
— Ой, девки, беда. Дак знатца ты теперечи у нас городской будешь, не то что мы, деревня битая.
— Я там в цирк пойду, а в цирке обезьяны всякие, даже коровы на задних ногах ходят.
— Ох ты, Господи, чего, нехристи, измыслили!.. Ты, парень, там шибко не загащивай, мать не бросай. Кто ей помогать будет?!
— Да ну, надоело мне в деревне, — по-взрослому, видимо, наслушавшись отца с Алексеем, рассудил Ванюшка. — Пускай Танька с Веркой помогают, а я поехал.
И тут в избу с гомоном залетели Пашка и Сашка-сохатый, потом, стараясь не отстать от них, тяжело перевалили через порог Серьга с Петухом. У всех голые ноги были чуть не по колено в грязи, которая уже засохла и отваливалась шматками, и можно было удивляться: где они в такую сушь надыбали лужу. Почему-то сёмкинские ребятишки — да, впрочем, и другие степноозерские — любили повозиться в лужах; и никакая простуда не брала, хотя месили грязь чуть не до самого Покрова, когда лужи схватывались первым тоненьким ледком. Семкины, случалось, и по снегу носились босиков, и тут, бывало, не чихнут, не кашлянут, когда иные изваженные-изнеженные, которых кутали при малом ветерке, частенько хворали, простывая даже в начальный зазимок.
Залетев в избу, ребятишки уставились зарными глазами на стол, где горкой были выложены шаньги; Пашка тут же, долго не думая, хвать румяную, следом потянулся Саха-сохатый, но не поспел, — мать садко шлепнула ладонью по его грязной, цыпошной руке.
— А ты спросил: можно, нельзя ли?
— Ага, Пахе можно, а мне нельзя, — огрызнулся парнишка, дуя на покрасневшую руку.
Возле него испуганно замерли Петух с Серьгой, поедая глазенками шаньги.
— Ишь, налетели, архаровцы, — Варуша горестно оглядела свой чумазый выводок. — Вон отец-то проснется, он вам пошумит… Ладно уж, возьмите по одной, и чтоб глаза мои вас не видели. А ты Пашка к Ваньке припарись, да щепок с пилорамы натаскайте, а то уж все дрова сожгли.