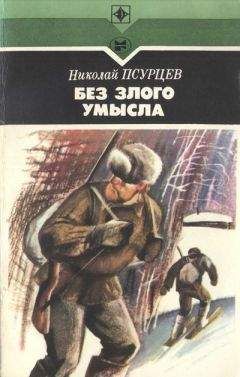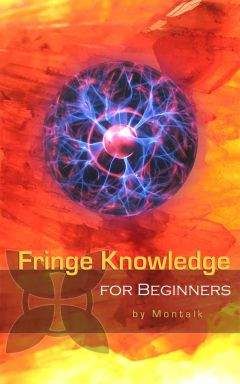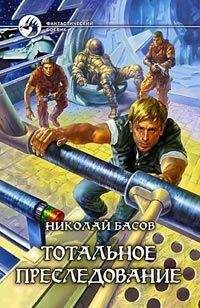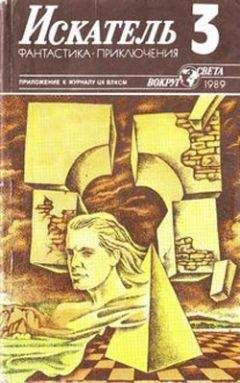Николай Псурцев - Тотальное превосходство
Решение принято, но это только начало удовольствия (хотя сам факт принятия решения уже сам по себе есть нескончаемое наслаждение), далее последует действие и связанный с этим действием риск, обретение полномочий, захват власти — сначала над самим собой, а затем и над другими людьми, а затем и над миром, не навсегда, к сожалению, а на мелкие всего лишь, на крохотные, спонтанные, не контролируемые по длине, ширине и высоте и, что самое важное, по протяженности непосредственно в самом времени, мгновения, мгновения, именно мгновения, не секунды, не минуты… Но эти мгновения стоят целой жизни — для такого, понятное дело, как бывший мой собеседник, который не мужик, который мужчина…
Черный «хаммер» заявлял о себе просто тем, что он был. Он стоял посередине дороги, и даже не шевелился, и уж тем более ничего не говорил, но на него все равно все смотрели, все-все-все, и смотрели совсем не потому, что он мешал проезду автомобилей, двигающихся в том же направлении, а обыкновенно потому, что он примитивно привлекал внимание, в том числе и мое, мое особенно, свое внимание к «хаммеру» я мог бы сравнить с вниманием к собственной смерти.
Лица белые, серые, желтые, красные и совсем неразличимые в темноте выглядывали из окон, стоящих вдоль улицы домов, и жилых, и предназначенных для учреждений; владельцы и хозяева тех лиц разглядывали «хаммер», с любопытством или бесстрастно, скептически или с восторгом, кто-то показывал в его сторону рукой, пальцем, а кто-то на «хаммер» плевался и даже, я видел, пытался на «хаммер» стошнить…
С потолка, сооруженного над городом, по-прежнему все еще капало, меньше, правда, чем несколько минут назад, но гораздо больше, признаться, чем несколько часов тому — днем, когда под потолком отвязанно и развязанно ярилась жара…
Никто никому ничего не должен, никто никому ничем не обязан. Я который год подряд уже пытаюсь вогнать в глубь себя, в самую середину себя, в подсознание свое эту действительно не требующую совершенно никаких доказательств истину, эту аксиому — я старателен и настойчив, я агрессивен и изобретателен, я хитер и доброжелателен, однако мне по-прежнему с самим собой бывает необыкновенно трудно, не во всем, разумеется, но во многом — мысль о том, что никому из нас никто ничего не должен и никто ничем не обязан, все еще так и не стала моей личной собственной мыслью, она не внедрилась в меня, не просочилась, не въелась, не вросла, она, эта мысль, эта истина, так до сих пор и осталась для меня всего лишь словами, правильными, верными, бесспорными, но словами…
Водитель «хаммера», сукин сын, его мать, вовсе не должен открывать мне дверь своего богатого автомобиля и уж тем более совершенно не обязан о чем-либо со мной разговаривать, это я сам, лично, обязан вынудить его открыть мне дверь и затем непременно должен заставить его о чем-либо со мной поговорить, о чем мне надо, о чем мне требуется.
Я раскатисто и протяжно одновременно рявкнул в темное боковое окно, что-то вроде того, что, мол, давай, открывай, пакостник, покажи мне себя, поговори с людьми по-серьезному, объясни, что объяснить у тебя получится, и извинись за то, что объяснить тебе так и не удастся, ударь меня, в конце концов, когда выйдешь, или выстрели в меня, хренов урод, или залей меня своей вонючей мочесодержащей струей, или обмажь меня своим тухлым ядовитым дерьмом, но только сделай хоть что-нибудь, но только проявись, только обозначься…
Не говорил я, а пел — так мне показалось. Я услышал мелодию в звуках, которые издавал усиленно и с настроением, ясно рождалась она и доподлинно продолжала жить, то есть не умирала, улетая от меня, где-то обреталась неподалеку или, может быть, на самом деле так далеко, что я даже не могу себе этого и представить, и возвращалась все-таки затем: для того, верно, чтобы дать мне возможность целиком и полностью, всерьез и надолго и осознавая точно всю архиважность происходящего, ее закончить.
Мелодия выкликала из меня воспоминания и удовольствие. Я узнавал ее и не узнавал ее, мучая жестоко и сердито и самого себя, и то пространство вокруг себя, которое по праву мне принадлежало еще с самого рождения, а не исключено, что даже и раньше.
…Я видел глаза, и зубы, и языки, и я умудрялся даже различать и голосовые связки. Люди пели, глядя мне ровно в глаза, все как один, их было, кажется, четверо… Они пели что-то о том, что когда-нибудь литература убьет архитектуру, о том, что самое страшное и одновременно самое прекрасное на этом свете, а может быть даже и на том свете тоже, это искренняя, осознанная любовь к своей судьбе, о том, что на самом деле единственной для каждого из нас Родиной является весь наш Мир, Земля, а вовсе даже и не то самое место, где когда-то, давно или недавно, мы родились, о том, если мы не способны контролировать время своего рождения, мы тем не менее все-таки имеем возможность хотя бы контролировать время своей смерти, о том, что предназначение каждого из нас заключается в безусловном, безупречном и полном исполнении нашей личной миссии на этой земле, в течение всей протекающей жизни, о том, что талант — это всего лишь способность человека, это умение человека точно определить для себя то дело, которое он в состоянии делать лучше всего…
Люди пели на французском, но я тем не менее знал, о чем говорится в их песнях, хотя французским языком никогда не владел, и не предпринимал ни раньше и ни теперь для этого никаких попыток, и не имел ни в кои времена подобного желания, и ни разу об этом, пусть даже случайно, не пытался задумываться. Мне просто когда-то, недавно совсем, может быть месяц назад, а может быть и два месяца назад, перевели эти тексты. И я помню — они мне настолько понравились, что я их обыкновенно заучил со слуха, чему был не без удовольствия удивлен, потому что никогда раньше я не умел заучивать иностранные тексты со слуха, даже английские, хотя английский язык знал в достаточной степени для общения и чтения основательно.
Они на сцене, я в зрительном зале, в первом ряду, они меня видят, и я на них смотрю, не отвлекаясь, не шевеля зрачками и даже, по-моему, не моргая, они ворожат, а я поддаюсь, но не надолго, на некие маленькие мгновения, потому что не люблю, чтобы кто-то мог позволить себе меня контролировать хотя бы даже на несколько десятых долей мгновения больше, чем я им, всем без исключения, людям, зверям, насекомым, рыбам, духам, пришельцам, могу разрешить это сделать…
Но так происходит совсем не потому, что я настолько силен, независим и гениален, я просто панически боюсь чужого влияния. И я защищаюсь от подобного влияния, как могу. Всеми доступными мне средствами. Если возникнет необходимость, я, не задумываясь, смогу и убить того, кому захочется вдруг внедриться в мое сознание, в мои эмоции, в мои чувства. Я боюсь раздвоиться, растроиться, распятериться, раздесятериться, я боюсь превратиться в параноика… Я плачу. Слезы текут у меня не только вниз по щекам, но и вверх — по векам, по бровям, по лбу, и в стороны — по вискам, по ушам. И скоро, совсем скоро вся моя голова становится липко и обильно мокрая, как после душа… Ришар Кошиянте и Люк Пламандон написали эту оперу. А помог им в этом славный Виктор Гюго, когда сотворил свой «Собор Парижской богоматери»…
Мой организм не подчиняется мне. Он плюет на мое знание и на мое смирение и кричит о Бессмертии!..
Я пью музыку и слышу, как она звучит теперь внутри меня самого…
Над креслами в зрительном зале упоительно скольжу по воздуху не только я один. Рядом с собой я вижу еще несколько человек, может быть десяток, может быть полтора десятка — не так уж и мало для парижской двухтысячной аудитории. Мы улыбаемся друг другу, и мы доброжелательно киваем друг другу. Мы понимаем друг друга…
Яркий белый свет освещает Цель. Низкий, чуть шершавый, веский, весомый, не отступающий ни на мгновение от заданной сокрушительной мощи голос рассказывает мне, нам о ее достижении — Цели…
Тени беснуются вокруг на стенах. Я раньше, еще несколько минут назад, не видел их. Кажется, будто они горят на невидимом простом, необученном, невооруженном, непосвященном глазом костре…
Я помню, я помню… Тогда было хорошо. Я любил себя, и я любил всех вокруг. И все вокруг. Я знал — тогда — наверняка — тогда, — что никогда не умру, — я знал тогда. Не уверен в этом сейчас… Повторение тогдашнего моего состояния, я не ошибаюсь, пришло ко мне нынче: веселились мои руки, веселились мои ноги, и даже чуть не пустилась в танец, бесшабашный и яростный, моя голова; на ясном, усмешливом, подвижном, быстром моем лице прятались до поры до времени пули, стрелы, снаряды, ракеты с ядерными, разумеется, боеголовками, предназначенные исключительно для тех, кто, возможно, захочет когда-нибудь помешать мне продвигаться к Достижению Поставленной Мною Цели — какой точно и определенно, пока еще не знаю, догадываюсь лишь…