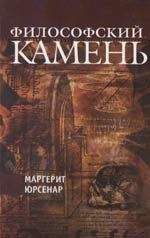Йоханнес Зиммель - Горькую чашу – до дна!
Я опять открыл глаза.
– Когда в дом попала бомба, я подумал: ну все, конец. Так все и погибли там, в подвале, кроме нас двоих.
– Не перебивайте господина гауляйтера, камрад. Я спросил: когда мы ударим вместе с американцами по русским? Во вторник мы получили приказ удержать дом партийного комитета. С тех пор не получаем никаких известий.
Я спросил очень медленно, так как язык плохо меня слушался:
– В какой вторник?
– Двадцатого апреля! В день его рождения. Что предписывают новые приказы?
Наконец мой мозг, работающий с превеликим трудом, уяснил, что доктор Трота или кто-то из его коллег устроил мне здесь западню. Я очутился в психиатрической лечебнице, где по распоряжению судьи должны в течение ближайших недель определить, вменяем ли я и если нет, то насколько. Поэтому эти двое – доктора, переодетые пациентами, – изображают тут двух эсэсовцев и делают вид, будто считают, что на дворе у нас 1945 год, что русские ведут бои за Берлин, что сами они попали в бомбежку и чудом уцелели – пятнадцать лет назад. И делали они все это, наверное, для того, чтобы проверить, как я отношусь к подобному бреду.
Поэтому я и сказал им попросту:
– Кончайте молоть чепуху!
– Простите, гауляйтер?
– Никакой я не гауляйтер, и вы это прекрасно знаете!
– Как же не гауляйтер! Ведь фюрер лично известил нас о вашем прибытии!
– Вашего фюрера давно нет на свете.
– Он умер? – вскрикнул тот, что изображал уполномоченного.
– Да.
– Кто его преемник? Кто возглавит партию?
Как они оба переигрывали! Уму непостижимо. Что себе думают здешние врачи? Примитивная работа – хуже некуда!
– Ну ладно, прекратите, – сказал я. – Кончайте ломать комедию.
– Я, как ортсгруппенляйтер…
– Кончайте, я сказал! Никакой вы не ортсгруппенляйтер!
– Но это чудовищно! – воскликнул тот врач, который назвался Херренкиндом.
– Мы – верные последователи фюрера, пусть даже мертвого! – воскликнул тот врач, что назвался Шлагинтвайтом.
– А мертвого – тем более!
– Хайль Гитлер! – крикнул один из врачей.
– Зиг-хайль! – подхватил второй, и оба вскинули руки в гитлеровском приветствии.
– Зиг…
– Хайль!
– Зиг…
– Хайль!
Я сказал совершенно спокойно, совершенно бесстрастно:
– Берлин пятнадцать лет назад взят Красной Армией. Пятнадцать лет назад война кончилась. Вот уже пятнадцать лет не существует больше нацистской партии, хотя нацистов хоть отбавляй.
Вот вам, подумал я. Получите. Что теперь скажете? Переодетые врачи обменялись долгим взглядом. Потом тот, что назвался Херренкиндом (тоже мне имечко подобрал![40]), осторожно протянул:
– Вы что, идиотами нас считаете, что ли?
– Я считаю такой метод обследования идиотским.
– Метод обследования? Сегодня утром Шлагинтвайт подбил танк «те-тридцать четыре» – а вы нам толкуете, что война пятнадцать лет как кончилась? Что пятнадцать лет, как нет больше нашей партии. А получше ничего не могли придумать?
Тот врач, что играл Шлагинтвайта, вдруг завопил:
– Да это советский шпион, камрад! Он эмигрант и хочет нас разложить, чтобы мы сдались русским! Это они напялили на него наш мундир!
– На мне нет никакого мундира!
– На вас такой же мундир, как на нас! – Голос врача сорвался на визг.
Нет-нет. Дело зашло слишком далеко! Да и проверка ли это?
– Смерть коммунисту! Немедленно уничтожить!
С этими словами один из врачей хотел на меня наброситься (что они себе здесь позволяют!), но второй удержал его и произнес с такой дилетантской фальшью, за которую его бы выгнали с деревенских подмостков:
– Стоп, оргсгруппенляйтер! А если он не коммунистический лазутчик? Если хотят лишь проверить, храним ли мы верность фюреру и после его смерти?
– Кто хочет проверить?
– Там, наверху… Если они послали его к нам, только чтобы узнать наши мысли?
После этого врач, называвший себя Херренкиндом, вновь молча уставился на врача, называвшего себя Шлагинтвайтом. Какой спектакль устраивают ради моей персоны, успел я еще подумать. Но тут же мне пришлось изменить направление моих мыслей.
Тот врач, что назвался Херренкиндом, внезапно завопил как ужаленный:
– Вы правы, камрад! Высшее командование не доверяет нам! Это провокация!
– Пускай! Тем паче – прикончить его, и дело с концом!
– Браво! Только так мы можем доказать свою верность! Адольф Гитлер – зиг…
– Хайль! – вновь завопили они хором.
И набросились на меня. Но тут мой мозг вдруг заработал на больших оборотах: я ошибся, они не врачи; это не было ловушкой, проверкой, видом обследования. Они были психи, настоящие психи.
Но психи старые, немощные, и в обычное время я бы с легкостью с ними справился.
К сожалению, время было для меня не обычное, к сожалению, я был очень слаб, голова кружилась. Правда, я сумел кое-как выбраться из койки и врезать кому-то из них кулаком в лицо, но и они дали мне сдачи, мы все рухнули на пол и покатились, сцепившись.
– Помогите! Помогите! Помогите! Я орал изо всех сил.
Ортсгруппенляйтер оказался на мне. Я ударил ему сбоку под ребра, и он откатился в сторону. Я вскочил, но тут на меня набросился уполномоченный и опять повалил на пол.
– Зиг-хайль! – вопил он.
– Помогите! – орал я. – Помогите! – Эти безумные с безумной силой всерьез покушались на мою жизнь. – Помогите! Помо…
Я уже хрипел. Уполномоченный душил меня. Сзади открылась дверь. Вбежали два санитара. И резиновыми дубинками принялись избивать стариков.
– А ну, отвали!
– Отвали, черт бы вас побрал!
Старики отбежали в угол. И стояли там, изготовившись к прыжку, рыча, скаля зубы и тяжело дыша. Я все еще лежал на полу. Первый санитар схватил меня в охапку и выволок в коридор, второй последовал за ним. Дверь захлопнулась. Санитар запер ее четырехгранным ключом. По коридору уже бежал к нам доктор Трота. За ним двигались человеческие тени, шаркающие шлепанцами, бледные, одутловатые, тощие, тучные.
– Что за безобразие тут творится? Каким образом этот человек оказался в семнадцатой палате?
– Вы сами так велели, господин доктор!
– Идиот! С одними идиотами имеешь тут дело! Я сказал: в шестнадцатую! В шестнадцатую надо было его положить, к тихим! – Он наклонился ко мне: – У вас есть травмы? – (Я покачал головой.) – Этих двоих в сорок пятом засыпало при бомбежке в Берлине… В сорок шестом перевели к нам из Виттенау. Считают, что все еще живут в «третьем рейхе». Время для них остановилось, понимаете?
– Оставьте меня в покое.
– Это наш недосмотр. Очень неприятно. Я же говорил, от перегрузки у нас голова идет кругом.
– Оставьте меня в покое, прошу, – прошептал я. Я мог говорить только шепотом, потому что внутри у меня дал о себе знать кулак.
Не надо. Не надо.
Не надо еще и это сейчас.
Шерли, сделай так, чтобы приступ меня миновал. И его не было.
22
– Они тут и в самом деле перегружены так, что и вообразить невозможно, – сказал мне тридцатипятилетний архитектор Эдгар Шапиро, сидя на краю моей койки в шестнадцатой палате, куда меня привели.
Эта палата и впрямь была «тихой». Ее обитатели спали или тихо беседовали друг с другом. Один лежал под кроватью, другой стоял лицом к стене. Шапиро мне сразу понравился. Он был вежлив, скромен и предупредителен. Он меня успокоил, шок прошел.
– Видите ли, наше отделение считается тихим. Над нами расположено буйное. Там лежит вдвое больше больных. В здании напротив, в женском отделении, еще больше пациентов. У них не хватает санитаров, не хватает коек, не хватает денег.
– Доктор Трота сказал, что на одного врача приходится семьдесят больных.
– На бумаге. В действительности ему приходится заниматься сотней пациентов.
– Но это же невозможно!
– Потому здесь и порядки такие.
Тут Шапиро сел на своего конька: вместимость этой лечебницы по плану составляла максимум 1500 пациентов.
– Знаете, сколько их тут фактически? В настоящее время свыше двух тысяч семисот! И меньше двух с половиной тысяч никогда не бывает!
В некоторых палатах больные спали на двухэтажных нарах, рассказывал Шапиро, а кое-где в коридорах и «дневных» помещениях на ночь расставляли кровати. Просто потому, что не хватало места, скученно жили все подряд: старые и молодые, наркоманы, алкоголики и извращенцы, уголовники, безобидные простаки и дети.
– Хуже всего, что дети варятся во всей этой каше! Это чистое преступление!
– Давно вы уже здесь? – спросил я.
– Три года. Из-за поламидона. Под конец я принимал до пятидесяти ампул в день. Думаю, летом меня выпустят. Они ко мне очень хорошо относятся, право. Эта старая коробка стоит здесь с тысяча восемьсот восьмидесятого года. Тут была казарма. Нынче у них нет денег на новые клиники. Приходится строить новые казармы.
Над нами вновь раздался тот ужасный рев, который я слышал утром.