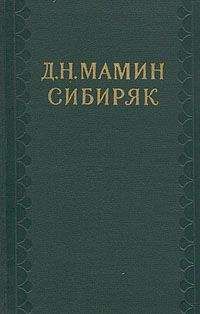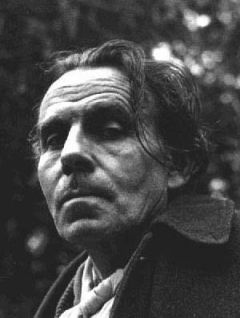Марк Хелприн - Солдат великой войны
Будучи ветераном многих поединков, Алессандро не мог не спровоцировать оппонента.
— Сколько десятков пыльных томов на греческом и латыни вы прочитали, пока вокруг колыхалось болото, насекомые жужжали над мраморными мавзолеями, а моль ела твидовые охотничьи куртки вашего отца? — спросил он, не удосужившись отдать честь.
Рот майора открылся. Он словно всасывал холодный воздух, чтобы принести облегчение только что обожженному языку.
— Чего? — переспросил он, забыв про военный устав точно так же, как и рядовой, вошедший в бункер с видом генерала, командующего этим сектором.
Зная, что майор слышал каждое слово, Алессандро сел, не отрывая от него глаз, и продолжил:
— Вы стреляли по тарелочкам из английского ружья, так? Вы научились пить аквавит и читаете Апулея. Ваш отец все время тревожился, что фундамент виллы разваливается, а у него нет сил сгрести опавшие листья. Он был убежден, что они могут послужить причиной отравления, если гниль попадет в источник воды.
— Мой отец?
— Седые baffi[72] и выпученные глаза. Он носил халаты и писал ручкой из черного дерева и золота. Вы не помните? На болоте.
— Мой отец был инженером, — защищаясь, ответил майор, его голос начал набирать силу. — Мы жили в квартире на виа Колы ди Риенцо. Какая еще моль ела его твидовые охотничьи куртки? Не было у него никаких твидовых охотничьих курток.
— Откуда мне знать гардероб вашего отца? — негодующе вопросил Алессандро. — Или вы видите во мне его портного?
— Ты первым упомянул про твидовые охотничьи куртки.
— Я высказал догадку, основываясь на доступных мне сведениях.
— Каких еще сведениях?
— Вашем лице.
— Ты кто вообще такой? — удивленно спросил майор. — Ты даже не отдал честь. Сидишь тут на моем стуле.
— Та моя часть, что находится повыше ног и пониже талии, со стороны спины, разделенная на две половинки и круглая, устала, — ответил Алессандро.
— Ты понимаешь, — спросил майор, наклоняясь над столом, — что людей расстреливали и за меньшие нарушения субординации?
— Нет, я этого не понимал, но в «Звезде морей» они дохли у меня на глазах, как мухи. Постоянно. — Прежде чем продолжить, Алессандро откашлялся. — Меня тоже пытались расстрелять, но промахнулись, или меня в последний момент вывели из строя. Как это случилось? Не имеет значения. Я узнал слишком поздно, понял после того, как уже ничего не мог изменить, что я неуязвим. Это, конечно, не аура, а комическая неуязвимость.
— Комическая неуязвимость?
— Да. Это шутка. Мне выдан laissez-passer[73], и я наблюдаю, как других разносит в клочья. Это все дело рук этого ублюдка, этого карлика Орфео. Он за всем этим стоит.
— Не понял.
— Вы думаете, Джолитти[74] и кайзер ведут эту войну? Франц-Иосиф?
— Не они?
— Всем рулит карлик, от первого выстрела до последнего, карлик Орфео Кватта. Если бы я только знал! Вы и представить себе не можете, сколько он подписал несправедливых, неоправданных, произвольных приказов на расстрел. Он бросал в костер целые бригады. Я не верил ему, когда сидел рядом с ним, переписывая португальский контракт, но он, скорее всего, говорил правду. Он говорил мне, что один из писцов моего отца, туринец по фамилии Сандуво, нашел способ заставлять кур откладывать по семь яиц в день. Курам играли на клавесине какое-то рондо и натирали их несмываемыми чернилами. Орфео собирался украсть этот способ и начать разводить кур, но боялся, что Сандуво, узнав об этом, его убьет, поэтому Орфео решил первым делом убить Сандуво. Разумеется, Сандуво шутил, но, думаю, это не остановило Орфео.
— И убил?
— Сандуво выловили из Тибра. Он ударился головой и утонул. Хотя, скорее, по голове его ударили.
— Какое это имеет отношение…
— Мне следовало убить Орфео еще тогда. Просто не пришло в голову. Когда он высунулся из окна, чтобы бросить монетки мнимым оперным певцам из Африки, я мог его столкнуть. Мир бы сохранился, и все, кого я любил, остались бы живы. Я бы ходил с вечеринки на вечеринку, переспал бы с четырьмя сотнями иностранок, как Фабио, и плавал бы на весельной лодке по Тибру. Читал книги и старел, наслаждаясь едой и питьем. Осенью прогуливался бы по виа Колы ди Риенцо в твидовых охотничьих куртках вашего отца с проеденными молью дырами.
Поскольку майор не знал, что и думать, он достал сигарету из алюминиевого, выданного армией, портсигара. Предложил Алессандро, получив отказ, щелкнул армейской зажигалкой, закурил и задумчиво уставился в потолок бункера.
— Пол его стенного шкафа, пусть и обшитого кедровыми досками, усеивали катышки моли, — добавил Алессандро.
— Почему ты насмехаешься над моим отцом? — спросил майор.
— Я любил вашего отца, — ответил Алессандро. — Он был таким же, как мой собственный. Как я же могу насмехаться над ним? Я насмехаюсь только над собой.
— Почему?
— Почему? Потому что, стоит мне к кому-нибудь привязаться, как этот человек умирает.
— Даже свежее пополнение, которое мне присылают, испытывает усталость от войны.
— Нет у меня никакой усталости от войны, — рявкнул Алессандро. — Меня воспитывали и готовили для битвы. Я больше двух лет на передовой. Я не устал. Я не боюсь. Я не лишен здравого смысла. Наоборот. Я причина смертей, и не только в сражениях. Если уборщица умирает в своей постели в Трастевере, солдат гибнет при разрыве артиллерийского снаряда, африканский вождь умирает от заражения крови, вызванного укусом страуса, все это одно и то же, так? Зачем проводить разграничения? Сомневаюсь, что это дело рук Бога. Для туриста в Пинакотеке Брера все картины одинаковы, как бы они туда ни прибыли, на поезде, на лошади, в автомобиле. Я не устал. Просто негодую из-за всех этих смертей.
— Это плохо. И что ты намерен делать? Ты не можешь оживить мертвых.
— Знаю. Пытался.
— Не понял. Ты пытался?
— Что ж, дело ясное, — кивнул Алессандро. — Полагаю, вы думаете, это иррационально. Так и есть. Но рациональное в ходу только в материальном мире. Но почему я должен ограничивать себя рациональным?
— Потому что тебя не поймут, если не ограничишь.
— Наоборот. В любом случае благоразумие иррационально, и те, кто рационален, на самом деле иррациональны, как и все остальные.
— Что?
— Вы человек современный. Наверняка. Вы признаете теорию эволюции, так?
— Ну да.
— Естественно, это основа вашего мышления. И теория энтропии, вы ведь с ней знакомы?
— Да, знаком, — подтвердил майор.
— И тоже признаете ее?
— Не знаю.
— Большинство признает. Они думают, что то, что справедливо для реальных физических процессов, можно приложить и к космологии.
— Что приложить?
— Только это. Вы верите в теорию энтропии, которая утверждает, что все процессы стремятся перейти на более низкий уровень организации и энергии, и в эволюцию, заявляющую, что история жизни — переход от простого к сложному, то есть с точностью до наоборот. Такие люди, как вы, верят в обе эти теории. Это de rigueur[75]. Такое благоразумие рационально? Я говорю, да пошли вы. Всю жизнь я посвятил возвращению мертвых только для того, чтобы понять, насколько это бессмысленно.
— Что ты делал, устраивал сеансы? Ты мистик?
— Я учился концентрировать силы и чувства и пытался соединять их, как музыку, как песню, с собственной жизнью, превращать во что-то новое. Это и песня, и не песня, нечто, имеющее собственную жизнь, движущееся в своем направлении и утягивающее тебя за собой. Я не играл на музыкальных инструментах, но изучал теорию музыки и знаю постулаты Аристотеля[76], и музыка невероятно меня трогает. Я не играю ни на чем, за исключением барабанов, на которых может сыграть каждый, и не сочиняю музыку.
— Ох, — прервал его майор, обмяк на стуле, застыл.
— Я критик. Я пишу эссе о произведениях искусства. Это то же самое, что быть евнухом в гареме, но безответная любовь самая сладкая, и я держу положенную дистанцию. Я могу вбирать в себя критерии красоты, которые меня учили находить, запасать их, а потом усилием воли выдавать со скоростью пулеметного огня в любой угодной мне последовательности. Образы, тысячи, сотни тысяч образов. Мое поле деятельности — эстетика живописи. Из уважения к ней я держу в голове образы, сжатые в крошечные квадратики, такие, как миниатюры Одериси да Губбио и Франко Болоньезе, словно маленькие почтовые марки. Каждая сияет. Все равно, как вы смотрите в огневую камеру через глазок или в одно из этих пасхальных яиц с картинками внутри или наблюдаете за ярко освещенной и далекой частью города в телескоп с искрящимися линзами. В каждой рамке густо-красное, зеленое, темно-синее, цвета, которые итальянцы не научились смешивать так же хорошо, как англичане и датчане, хотя мы в совершенстве овладели всеми другими цветами. Когда я прокручиваю их перед мысленным взором — «Портрет Биндо Альтовити», «Бурю», птиц, другое, дарованное мне не только художниками, но и солнцем, когда оно садится или светит на здания цвета шафрана, виды идеально спланированных площадей, галерей, внутренних двориков — я вижу нечто живое, как песня, и в песнях, которые поднимаются в моей памяти, будто вращающиеся столбы дыма, из темноты оперных залов в свет прожекторов, чтобы вращаться в пустом пространстве наверху, я вижу лица людей, которых люблю, лица моих родителей, Гварильи и Ариан… и они почти живые.