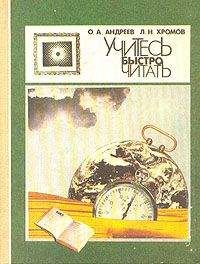Джанет Фитч - Белый олеандр
— А-а-а… — Она опять откинулась на траву, подложила руки под голову. — Я им говорила, что ты вряд ли их встретишь с распростертыми объятиями. Но они нежные создания, идеалистки. Решили, что надо дать тебе шанс. Они так гордились этой статьей. Кстати, тебе понравилось?
— Я ее выкинула.
— Жалко.
С дерева вдруг вспорхнули вороны, мы слушали, как их резкие крики удаляются к тюрьме. По дороге проехал грузовик, огромный, с рекламными надписями, с двойными задними колесами. Из приоткрытого окошка неслось идиотски-веселое кантри. Как в Гуанохуато, подумала я и поняла, что мать думает то же самое. Моя майка не впитывала пот, он стекал струйками и скапливался на поясе юбки. Ощущения были такие, словно я перехожу вброд мелкую речку.
— Расскажи мне об Энни.
— Почему ты все время цепляешься за прошлое? — Она резко поднялась, собрала волосы в узел, проткнула его карандашом. Голос повышенный, тон раздраженный. — Зачем тебе эта пачка заплесневелых газет в гараже какого-нибудь старика?
— Прошлое никуда не исчезает. Оно длится до сих пор. Кто такая Энни?
Ветер шевелил плотные глянцевые листья смоковницы, больше не было ни звука. Мать обхватила голову растопыренными пальцами, словно отжимала волосы, выходя из воды.
— Соседка. Сидела с детьми, стирала чужое белье.
Запах стирки, корзины с бельем, сидение в корзине с другими детьми, игра в лодку. Шестигранные фигурки. Они были желтые, мы возили их по кухонному полу.
— Как ока выглядела?
— Низенькая, болтливая. — Мать прикрыла глаза рукой. — Носила сандалии на деревянной подошве.
Хлопанье деревянных подошв по линолеуму. Желтый линолеум с разноцветными пятнами, прохладный, если прижаться к нему щекой. Ее ноги. Голые загорелые ноги в обрезанных старых джинсах. Но лица я не помнила.
— Темная или светлая?
— Темная. Прямые волосы с короткой челкой. Совсем не помню, какие у нее были волосы.
Только ноги. Еще голос, я вспомнила, как она целыми днями подпевала радио.
— А где была ты?
Минуту мать молчала. Провела рукой по лбу, по глазам.
— Неужели ты это помнишь?
Все, что она знала обо мне и не хотела рассказывать, все воспоминания были заперты в этой изящной черепной коробке, напоминающей свод старинной церкви. Мне хотелось расколоть этот череп, вычерпать ложкой мозг, как яйцо всмятку.
— Представь себе мою тогдашнюю жизнь, хоть на пять минут, — тихо сказала она, складывая ладони лодочкой, словно держа передо мной эту жизнь в ореховой скорлупе. — Представь, насколько я была не готова стать матерью маленького ребенка. Навязанная архетипическая роль, вечная самоотверженная женственность. Ничто не могло быть более чуждо мне. Я привыкла следовать своим запросам и склонностям, пока они не придут к логическому завершению. Привыкла всегда иметь время для творчества, для размышлений, привыкла к свободе. Тогда я почувствовала себя заложницей. Ты понимаешь, до какого отчаяния я дошла?
Я не хотела ничего понимать, но вспомнила Кейтлин, тянущую меня за футболку, не отпускающую, кажется, никогда: «Асси, сок! Сок!» Вспомнила ее деспотическую требовательность. По другую сторону забора молодая женщина у стойки администратора смотрела за таким же малышом, подметающим веткой бетонные ступеньки, шаркающим по ним упрямо и бесконечно, словно в наказание.
— Но дети все такие. Ты что, думала, я буду тебя развлекать? Что мы с тобой будем обмениваться мнениями о поэзии Бродского?
Мать села, скрестив ноги, уронила ладони на колени.
— Я думала, что мы с Клаусом будем жить долго и счастливо, как Адам и Ева в виноградном шалаше. Я исполняла архетипическую роль. Я лишилась своего долбаного ума.
— Просто ты любила его.
— Да, я любила его, ты довольна? — закричала она мне в лицо. — Я любила его, думала, что ребенок укрепляет семью и прочий вздор, а потом у нас появилась ты, и однажды утром я проснулась замужем за никчемным, слабым, эгоистичным человеком, которого терпеть не могла. А ты, ты только требовала, требовала, требовала — «мама! мама! мама!», — в конце концов я была готова швырнуть тебя об стену.
Меня затошнило. Нетрудно было в это поверить, представить себе. Я видела это все даже слишком ясно. И понимала, почему она никогда не рассказывала мне об этом — легко было удержаться.
— И ты оставила меня у соседки.
— Я не собиралась надолго тебя оставлять. Попросила ее посидеть с тобой только остаток дня, чтобы поехать на пляж с друзьями. Одно цеплялось за другое, у них были свои друзья в Энсенаде, и я поехала сними. Это было замечательно, Астрид, невероятно. Свобода! Ты не представляешь себе. Можно сидеть в ванной, сколько хочешь. Спать после обеда. Весь день заниматься любовью, ходить на пляж и не думать каждую секунду: «Где Астрид? Что она делает? Куда еще залезла?» И ты уже не висела на мне круглосуточно, не канючила «мама-мама-мама», вцепившись в меня, как паук.
Она вздрогнула. Она до сих пор с отвращением вспоминала касания моих пальцев. У меня голова закружилась от ненависти. Вот моя мать, женщина, вырастившая меня. Разве у меня мог быть когда-то хоть один шанс?
— Сколько тебя не было? — Голос звучал тускло, безжизненно даже в моих собственных ушах.
— Где-то год, — тихо сказала она. — Плюс-минус несколько месяцев.
И я не сомневалась. Каждая клетка моего тела кричала, что это правда. В памяти всколыхнулись все ночи, когда я ждала ее возвращения, ловила звук ключа в замке. Неудивительно. Неудивительно, что меня пришлось насильно отрывать от нее, когда я пошла в школу. Неудивительно, что я всегда боялась — мать не вернется домой, бросит меня. Ведь она уже так поступала.
— Но ты задаешь не тот вопрос, Астрид. Не спрашивай, почему я ушла. Спроси, почему я вернулась. Проехал грузовик с четырьмя лошадьми в прицепе. До нас долетел лошадиный запах, над перегородкой мелькнули блестящие крупы, и я вспомнила день скачек, Гордость Медеи.
— Тебя надо было стерилизовать.
Она вдруг вскочила и припечатала меня ладонями к стволу. В ее глазах стояло море, окутанное туманом.
— Я могла бросить тебя там, но не сделала этого. Ты что, не понимаешь? Раз в жизни я поступила правильно. Ради тебя.
Теперь я должна была простить ее, но было слишком поздно. Я не стала произносить свою реплику в этой сцене.
— Вранье. Ради себя, — сухо сказала я.
Ей хотелось дать мне пощечину, но было нельзя. Свидание тут же прервали бы.
— Раньше ты никогда такой не была, — сказала мать. — Ты стала твердокаменная. Сьюзен рассказывала мне, но я думала, это только поза. Ты потеряла себя, Астрид, свою мечтательность и нежность.