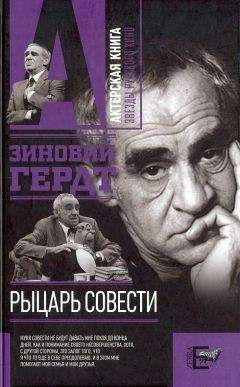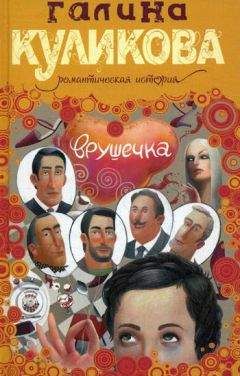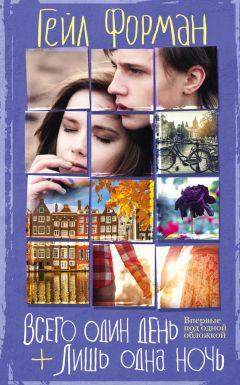Вячеслав Овсянников - Одна ночь (сборник)
Сосна в бусах, роняет с шорохом дождевые жемчужины. Из-под века коры смотрит умный янтарный глаз. Купался голый. Туман. Сырое ку-ку из леса. Белые чаши жасмина. Опять облился холодной водой. Стоял босыми ступнями на росистой траве с белыми головками клевера. Небо сразу стало выше, шире, тучи титанически шевелятся, распахнул объятья, братаемся. Вскипятил воду в ковшике, а чая-то щепотка. Гулял. Знойно-влажно блестит листва. Шмель в рыжей шубке, жарко ему. Звон пилы рыдающий. Мостик из замшевых досок через канаву. Густой, парной запах просыхающих после дождя растений. Дохнуло и на меня Это на Этой дороге. Опять надвигается в тишине, потемнело, пахнуло влагой, гремит лениво, нехотя, заоблачное ворчанье. Неубранное белье мокнет под дождем на веревках, возбужденное, обрадованное переменой в судьбе, рукава рубах свисают над яркоглазой травой, тянутся к ней, покачиваясь и вздрагивая. Лежу у окна с небом, на правом боку, с закрытыми глазами, подложив руку под голову. Внезапный блеск сабли пронзает веки, раздается удар грома, и я, испуганный, вздрагиваю. Будто бы, выпив вина, пьяный, лежу, обнимая обнаженную хмельную женщину, и она горячо прижимается ко мне, и лепечет мне на ухо что-то нежное и страстное, полное грозы, молний, мрачного электричества, шума мокрых вершин. А та, за окном, воительница, бушует, гремит, не переставая, и сабля сверкает, глубоко озаряя глаза под веками, и кто-то огромный с треском разрывает небо. Я в один из своих дней. Купался в полночь. С сосен с шорохом падали капли, вспугивая розовые полосы на воде. Вышел помолодевший. Дорога лежит нежнотелая, спит с открытыми глазами бездонных луж. Варю уху из двух рыбок. Сосед дал. Оса и паук на туманном стекле. Оса бьется в сетях, обессиленная. Паук терпеливо ждет, затаясь, вверху. Лег спать, а по мне кто-то скользнул — по животу, по ноге. Вскочил, включил свет, отвернул одеяло — паук! Черный, мохнатый, на простыне!.. Будто бы лежу на дне глубокого колодца с черно-ржавой торфяной водой, а глаз мой плавает на поверхности, мрачная ромашка. Окно, овца в небе, муха гудит у изголовья. Подоконник то потемнеет, то разгорится. Тополь пишет тенистыми чернилами, у него на ветке фразы шумит много слов. Простужен. Сегодня не обливался. На лодке, у тростника за пазухой. Закат, забылся, шевеля веслами, как плавниками. Вода возрождает. Тянет к себе, уговаривая, нежно взяв за руку. Поздно. Брось. Голова мутная, как в тине. Зеленая муха ползет по абажуру. Не отделаться от вкуса рыбы, съеденной утром за завтраком. Стою у окна, смотрю в сад, и этот вкус рыбы во рту. Снилась книга, круглая, как блюдце, как карась в золотой кольчуге. Иду, облако — чудо, и девочки в купальниках, размахивая полотенцами, бегут через дорогу к речке, маленькие, острые, как бутоны, груди. А гора растет, шевелится, воздушная недотрога, плечи, шея. Как может повернуться женщина! Молния затрепетала мотыльком. Гуляю в доме, от одного окна с грозой до другого окна с грозой. Скучать некогда. Кровавый вечер. Блестит нож на столе. Шаляпин, велосипедист, жирный паук на озаренном стекле раскинул сеть. Цыган пробренчал на телеге с бидонами, горланя и стегая кнутом вялобегущую лошадь. Ни дня без грозы. Сад побит, залит. Конец света. Пишу у окна, глядя на эти ужасы. Дождь ослабел. Лягушка прыгает на дороге по лужам, всплескивая мглистую воду. Иду по ночной дороге в лужах и думаю об Апокалипсисе. Это место из пятой главы: «и видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Ничего, ничего. Горстка праха. Спросил через забор у соседа: какое число. Говорит: пятнадцатое июля. Снилось: будто бы лежу на дороге с какой-то женщиной, на виду, посреди множества людей, я лежу сверху на этой женщине, а голова ее среди камней и грязи, лицо неразличимо. Нас обступили мужчины и желают участвовать. Я протестую. А женщина, напротив, согласна, она хотела бы доставить радость всем сразу и возглашает возмущенно: «Хватит с меня и того, что я с мужем вот так намучалась!» Я целовал ей ноги и готов был на все, лишь бы она не отказала мне в своей милости. Чей-то гнусный, бабий голос рядом произнес: «Молодец! Уломала!» Проснулся в поту. Половина седьмого. Петух поет. Пчела летит пить с чашечек. Томлюсь в тюрьме дождя за обложной решеткой. К вечеру просвет, пошел купаться, а туча черная-черная, как первоначальная тьма из бездны. Вода обожгла, сжав в объятьях. Вышел возрожденный, словно юноша. Встретилась девушка с велосипедом, ведет за рога, в синем купальнике, на лице красивая мечтательная улыбка. Витебский. Клубится битва в полнеба. Лужи на асфальте, парной запах тополей, капли повисли на пальцах листьев. Вхожу. Она сидит на диване, розовый халат, мочит ноги в тазу и смотрит американский боевик. Взял с полки том Блока, «Записные книжки», и ушел к себе. Святослав Рихтер: «Рояль — это адская машина с акульими челюстями. Струны — натянутые человеческие жилы». Жаркий день. «Рыбы» Ларионова. Канал луженую глотку дерет Скалозубом. В Летнем саду сто лет не были. Духовой оркестр стариков. Джазовые мелодии. Сидим на скамейке, она замерзла, руки как из ледника, я согреваю их в своих, а она ногой подрагивает в такт мелодии. В «Елисеевском» купили селедку. У нее ноги отваливаются. Двадцать четвертое июля. Конечно. Ей хочется в Петергоф к фонтанам. А там теперь цены за проход неимоверные, для миллионеров. Идем вдоль ограды, высматриваем лазейку, мы с ней тоненькие, как щепки, вполне можем сквозь жерди пролезть. Нет, увидят. Лучше под этим мостом переберемся, по краю бездны, по скользкому гранитному выступу, рискуя свалиться в бурный поток с песком и илом. Ну вот, целы и невредимы, и бесплатно гуляем, а ты боялась. Тут есть на что поглядеть. В заливе купаются три индуса, коричневые, как ил Ганга, белозубые, кричат, тычут пальцами в Кронштадт. Идем, держась за руки. Парк кончился, поля. Сняли обувь и шли босиком по песчаной дороге. Дубравы. Травка пострижена под бобрик. Резкие тени. Проснулся. Она встала за стеной. Шумно металась. Опаздывала. А ушла только через час. Лязгнула дверь. Я успокоился и снова уснул. Приснились какие-то малайки. «Адажио» Томазо Альбинони. Ем черную смородину из чашки. У залива нам попался щит с надписью: «Купаться запрещено! Холера!» «Ну вот, а я руки в этой холерной воде мыла!» — вскрикнула она в ужасе. Забор. Флаг на башенке, как над фортом — белая и желтая полоса. Огородик, ульи, пчелы летают. «Спасательная станция». «Чувствуешь, водорослями пахнет?» Она раздувает ноздри, повернув лицо к морю. «Вот тут нам с тобой почаще надо гулять».
Хожу в сумерках, опираясь на ивовый прутик. Купался в грозу. Смерть от молнии — дар богов. Плыл, крича туче: «Убей! Ну, убей же!» Тоска. Бессвязно. Белые головки клевера вздрагивают. Орландо Лассо, бельгийский Орфей. Волны бьют лодку в скулу. Бьют и бьют. Мальчики в тростнике удят. Пожелал им поймать щуку. Колючая лапка с двумя зелеными шишками. Небо без птиц. Сплю, крутясь, как песчинка в вихре. Деревца, тоненькие, тянутся вверх — выше, выше. Оса вьется над чашкой чая, чаеманка. Знойно, купаюсь, хрустальная звезда. Лира Орфея. В звездные ночи я ее ясно вижу. Это поют Земля и Небо, си минор. Вот оно что. Муха уселась сверху на блестящий металлический ус антенны. Так ей лучше слушать. Алябьев, Глинка. Солнце на шоссе ревет мотоциклом. Весь день знобит. Гипноз заката. Вальс-фантазия. Стою на высоком берегу, над обрывом, прислонясь спиной к березе, она теплая, а светило, пылая, прячется за елями. Сыроежки червивые. Потерял ножик. Стоило для этого в лес ходить. Кружил, кружил вокруг стонущей сосны. Нет ножика. Леший подтибрил. Шуман, «Лесные сцены» в исполнении Святослава Рихтера. Ем чернику. Звезды ясные. Ковш, а над ним — седое крыло ночной тучи. За хлебом, а то разберут в мгновение ока. Две девушки босиком шли по шоссе, блестя запачканными ступнями. Пишу на клочке перед чьим-то домом. На дорогу вышла женщина: не инспектор ли я? Номера домов записываю? Туман на рассвете. Яблоки в алых брызгах. Она, легка на помине. На шее новое янтарное ожерелье. Янтарь необработанный, говорят, для здоровья полезен. Купим соковыжималку, а блузка подождет. Плеск у соседей, качают, гремят ведрами. Картошка уродилась — с голову годовалого ребенка!
В городе, как не в своей тарелке. Приехал ночью: огни, чьи-то колени с гусиной кожей, жирная грудь, ларьки, журналы, похабно. В Стрельну, побродить одному. Мутно-желто. Автомобиль с прицепом, грузят сено в тележку. Разулся, сижу босой. Кузнечик прыгнул на большой палец моей вытянутой ноги и гордо восседает, как изумрудный царь. Принес ведро вишен. Она, гладя белье, смотрит фильм про атомную станцию. Халаты, скафандры. Бледная, плохо себя чувствует. Поставил ведро и уехал. Она не обернулась. У реки костер. Мужчины за бутылочкой, ребятишки коптят на огне сардельку, нанизанную на прут. Она спускается по лестнице, как перистое облако. Тюль — занавески шить. Солдатские башмаки, она в них по горлышко утонула. Загадочное зеленое насекомое ползет по стеклу, распустив прозрачные крылышки. Провожал. Улыбается из вагона. Закат, коробка сигарет. Лик его ужасен. Четыре девочки и собака. На реке белая перина тумана. Октет фа мажор. Фары на шоссе. Немигающее око в небе. Да и понедельник в придачу. Мусоргский с нищим чемоданчиком. Выброшенный на лестницу. «Надо запретить сочинять такую музыку!» Чайковский о его «Борисе Годунове». Ем яблоко, червяк в нем. Лежу, солнце брызжет в лицо горячими лучами. Картошку в город везти… Она печатает на машинке с латинским шрифтом! Да ничего веселого. Родословные породистых собак для клуба собаководства. Вчера ей резали десну под наркозом. Фиолетовые зигзаги. «Ночной Гаспар». Марта Аргарис. Погасло. Полет дьявола. Окна пассажирского поезда пробегают по подушке. Рыжий, как все ирландцы. «Ты? Уже?..» Читаю книгу: страница черная, страница белая. Бедный, на шнурке от кальсон повесился. Крышу кроют зеркальным карпом. Двадцать пятое августа, день рождения Иоанна Грозного. Копаюсь в грязи, вылавливая из жижи полусгнившую картошку. Стая дроздов на сухом дереве. Сплю. Хлещет по стеклам. Баренцево море, шторм, поп в рясе, женский плач, плывут венки. Вас окружили крысы. Освободитель из Новой Гвинеи. На Сенной «Дон Кихота» не продать. Ночь ледяная. Спал в лыжном костюме. У соседа в сырых сетях ни свет, ни заря бьется серебряный лапоть. Она встала, поет, голая, янтарное ожерелье у сосков, лихо заломленная бровь. Вскрикнула. Напугал велосипедист, выскочив из-за спины, как блестящий вихрь. Черный луч ударил в дорогу, по которой мы шли. Отсырелый сверток суеверных дней. «Закрой заслонку и давай спать», — говорит она потухшим голосом. Лежу во мраке. Песнь варяжского гостя. Еще не все. Миска зеленых стручков. Четверной прыжок. Пар от железа. Встала. Слышу ее шаги в комнате и стук двери. Накачал воды, колышется в ведрах, играет утренним блеском. Лодка, зной, желтый обрыв. Разбудила собака, белая в черных кляксах. Сюита номер два си минор Баха. Солю грибы слезами. Радуюсь, как ребенок, не явившийся в мир. На дороге свежесрезанные златоголовые георгины. Милый друг подарил. Раскинула руки, лежит, блаженная, растянулась до леса, во всю ночь очей не сомкнула. Огоньки сигарет во тьме гуляли. Дыня с водкой. Сгорел, как ракета. Бледнорукая, ловит меня под луной в высокой траве. Ночью все автомобили серы. Заговор окружности против центра. Затяжные паузы. В корзине мокнут шляпки. Чмокнула в щеку. Ржанье пасущейся лошади за платформой. Рельсы гаснут. Вот и все. Цыганка на дороге, золотые колеса в ушах.