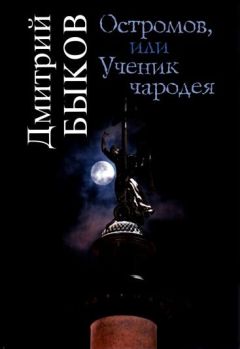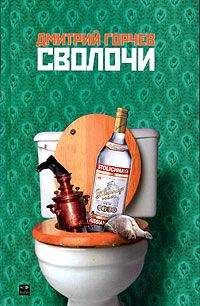Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Он помолчал. Ему трудно было это сказать.
— Но, в общем, вот был этот невероятный ренессанс всего. Всех искусств, всего вообще. И ты не поверишь, Женя, какой пошлостью это все глядит сейчас. А у нас — да, и плакаты, и чистки, и ужасная «Красная газета», но, Женя, этим отковывается удивительное поколение. (Он говорил теперь быстро, торопясь, чтобы Женя не вставила что-нибудь вроде «страданием очистимся» или «дробя стекло, кует булат»; говорил и за себя, и за Мартынова, и за Надю в особенности, и даже, как ни странно, за Варгу — кто же виноват, что глупая, а все-таки хорошая, дикая). У нас там совсем другие люди, и, может быть, они бы не понравились тебе. В них что угодно есть, Женя, но пошлости нет. И это потому, — страшно сказать, но так, — что та ваша свобода и тот расцвет были все-таки очень, Женечка, второсортные, как у Блока каждое второе стихотворение второсортное. А наша сегодняшняя несвобода и наш упадок — очень первосортные, первоклассные, и только это важно. Понимаешь? Только это. Россия вообще не очень ценит правильные там или неправильные взгляды. Россия ценит сорт. И вот Остромов — это не антропософия и не Анна Рудольфовна, Женечка, это первый сорт. А чему он там учит, куда ведет… важно, что он от этого уводит, — Даня широко обвел горизонт, хотя получалось, что Остромов уводит от моря; но Женя должна была понять.
— Это я все понимаю, — сказала она серьезно, — но как бы он, Даня, не увел тебя и от Христа. Потому что уйти «от всего вот этого» — это и значит очень часто уйти от Христа…
— Нет, — сказал Даня твердо. — От человека — да, тут никакого сомнения. Но от Христа никогда. Просто пойми — уж тебе ли не понять? — я только что одной девушке, — здесь он поймал себя на отвратительной многозначительности и покраснел, — доказывал как раз, хоть и не умею ничего доказывать… что прежнее христианство, в общем, недостаточно, что ему надо вернуть — нет, не магизм, конечно, и не язычество, но вот ту силу, которая изначально была. Ведь это все-таки пустыня, юг, это все-таки жестковыйное дело. И одной доброты мало.
— Но больше ничего нет, — удивленно сказала Женя.
— Вот то, что ты это говоришь, — это как раз от того, что ты не знаешь Остромова, — сказал Даня убежденно. — Я уверен, что ты бы поняла, если бы узнала его.
Женя не стала спорить, и некоторое время они молча смотрели на море, которое мы только за то и любим, что ему нет до нас никакого дела.
2На пятый день, когда все чемоданы были увязаны, а все судакские знакомые посещены, Даня отправился к Валериану. Это давно надо было сделать — передать привет от Остромова, валерианова оккультного спутника в тонких мирах, и вообще проверить на нем некоторые вещи: Валериан всяко понимал больше, чем Женя.
Уже на подходе к Убежищу, как называл Вал выстроенный по собственным чертежам ракушечниковый дом с башней, Даня услышал ничуть не осипший и не притихший кириенковский рокот:
— Но чтобы пережить эпоху, надо не только выжить — надо забыть ее! Только тогда ее можно судить, и у Анри де Ренье находим…
Это был Вал, неизменный, в вечном хитоне по случаю удивительной для сентября жары. И хотя в его постоянстве было нечто скучное, плоское — но и героическое: у этого опора была, и благо такой неизменности.
— О-о, Даня, — услышал он узнающий голос матери Вала, монументальной, все еще прямой, с пышной, как у сына, и совершенно седой шевелюрой. Она приветствовала всех одинаково дружелюбно, но ей, как и морю, ни до кого не было дела — это и была главная тайна ее здоровья. Она помнила, что Даня уезжал, но не помнила, куда, когда и зачем. При этом память была отличная — она и теперь не вела расходной книги, но отлично помнила, сколько можно тратить на провизию и кто сколько должен. Дом Вала был полон — три петербургских поэта-классика, спасающихся переводами, прозаик-маринист, и как раз сегодня съезжал исторический романист с застенчивой девочкой-женой, взятой взамен тяжеловесной матроны, недавней сочинительницы дамских романов. Исторический романист долго и звучно лобзал Вала, приговаривая:
— Чудесный, чудесный ты чудак. Будешь в Питере — милости, чмок, прошу.
— Даня, обедать будешь? — окликнула мать Вала. — Щи, но от чистого сердца.
Вал был весь в нее, так же бесконечно цитировал, но она его не любила, о чем иногда проговаривалась. Он был совсем не то, что она хотела, — романтик, слабак, эгоист, то есть всегда и во всем видящий угрозу. Он вырос у моря, но не умел толком плавать. Он был толст. Его легко было презирать, и Вал даже подставлялся немного — но всех, кто покупался и начинал панибратствовать, в этом доме немедленно раскусывали и больше не звали. Вал мог быть смешон, но не менялся. Вот почему Даню несколько покоробил отзыв учителя — незлой, но снисходительный.
В застольном разговоре солировал, как всегда, Вал: классики снисходительно переглядывались и только что не пересмеивались, маринист ел жадно и сосредоточенно, а к концу обеда заглянул Грэм, старавшийся, видно, опоздать к столу и заставлявший себя тянуть с посещением, но голод взял верх. Он пришел один, без жены, — жена, пояснил он кратко, в Москве, пытается выбить авансы. Сам он не поехал, ибо с новыми издателями говорить не мог. Было время, когда в начале НЭПа его издавали щедро, но теперь враз отвернулись, и он видел в этом п р е д в е с т и е. Впрочем, почти не говорил и он — еда была для него борьбой: огромное тело требовало кормежки, огромная душа стыдилась бедности, ел он медленно, растягивая, от добавки отказывался. Щи и морковные котлеты были пресны — мать Вала полагала, что все беды от соли.
Вал говорил обо всем сразу — о барокко, отход от которого казался ему предательством самой сути искусства; об эмигрантских письмах (уезжать не стоило — ведь он всем предлагал кров, и они тут отлично бы жили коммуной, а там — там никогда не будет чувства уместности, которое всегда утешало его здесь); о московском новом журнале, для которого у него попросили стихов — впервые попросили сами, значит, нельзя отворачиваться! После обеда он повел Даню бродить по берегу, а Грэм остался беседовать с матерью Вала, которую называл самой здравомыслящей женщиной на побережье.
— Ну что, рассказывайте, — сказал он, в точности как Миша, не прекращая собственных излияний. Даня еле успел вставить в его монолог привет от учителя.
— Остромов, — задумчиво проговорил Вал. — Позвольте, когда же я его… Кажется, один раз видались в Париде да потом еще в Питере. Никогда не разговаривали толком. Что же он говорит обо мне?
— Говорит, что в первый раз вы встречались еще до начала времен, — доверительно сказал Даня.
— Ну, все в первый раз встречались до начала времен, — сказал Вал рассеянно. — Потом, знаете, стирается… Нет, я не помню, чтобы мы говорили серьезно. Был какой-то приплюснутый типчик, откуда-то из Тамбова… Он, признаться, мало что понимал.
Даня не желал выслушивать такое об учителе. Все-таки Вал никого не видел, кроме себя. Он немедленно возобновил разговор о том, что интеллигент — негатив власти, и начал цитировать огромную поэму, написанную белым стихом. Даня смотрел на море и машинально кивал. Он раньше Вала заметил приближающийся темно-зеленый катер.
— Это не к вам, Валериан Александрович? — спросил он, когда Вал сделал паузу.
— О Господи, совсем забыл! — воскликнул Вал. — Это из Феодосии, экскурсия красноармейцев. Они прислали позавчера нарочного, а я и забыл с этим Шаблиным… — Шаблин был исторический беллетрист. — Ну ничего, по своему-до дому я всегда проведу экскурсию. Расскажу про Египет, тем более, что аналогии разительны…
И, бормоча про себя будущую лекцию, он устремился к причалу, состоявшему из единственного железного мостка.
Даня решил присоединиться к экскурсии. Красноармейцы были смуглые, пыльные и преимущественно двух сортов. В одних поражала детская доверчивость, радостное любопытство от вида моря, каменистого берега, странного асимметричного дома — в других отчетливо проступало глумление, хмыкающая насмешка над всеми этими ненужными украшательствами — башнями, домами, скалами да и самим морем. В пустыню бы их, там бы им самое место. Глумление было робким, приплюснутым, с оглядкой, оно покамест еще спрашивало разрешения — потому что нельзя же, культура, положено; но вечное чутье всех приплюснутых уже подсказывало им, что Вал тут и сам как бы из милости, а потому хмыкать уже можно. И зеленые летние картузы на них смотрелись как кепки на пролетариате.
Вал решительно шагал к причалу, предвкушая аудиторию, — ужас, как истосковался он тут по общению, не с архивными же юношами было обсуждать дионисийство; пожалуй, разговора с ним и Альтер не поддержал бы, ибо Вала носило по трем тысячелетиям, как Лаэртида по эгейским зыбям. Вдруг он полуобернулся:
— Слушайте! Может, мне — кормить их?
— Но в музеях не кормят, Валериан Александрович! — взмолился Даня. — Ведь они вам не платят!