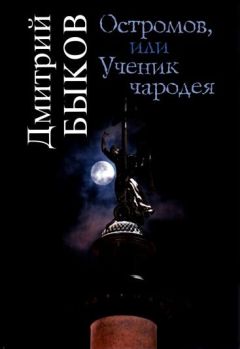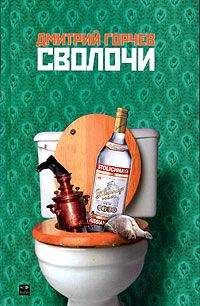Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
Из Веры выросло черт знает что. Даня в последний раз видел ее два года назад и, когда мысленно сочинял ей шараду из поезда, обращался все еще к той девочке, к тринадцатилетней, порывистой, видевшей странные сны (некоторые он записывал даже, и только Грэм, пожимая плечами, говорил, что сны самые обыкновенные, какие и положено, а вот странно видеть во сне, например, о к р о ш к у). Нынешней Вере было пятнадцать, она была не в мать и не в покойного отца, она страстно рвалась обратно в Феодосию, где у нее были друзья, и говорить с ней было решительно невозможно. Даня заметил в ней прежнюю нервность, но ведь нервность без ума невыносима, лучше уж мыльное, сырное спокойствие деревенских баб. Вера секунды не могла оставаться наедине с собой, не выносила тишины — может, их общая нервозность, присущая всему обреченному классу, выражалась так странно, но у Веры не было ни малейшего сознания обреченности. Она не могла поддержать разговора, не умела думать, Даня, казалось, видел хвосты и обрывки крошечных мыслей в ее голове, — они носились там, не связанные, ни к чему не ведущие. Она стала непоседой, но в беспрерывном ее хлопотании не было ни ритма, ни грации. Глядя на нее, Даня снова задумался о том, что основа мира — ритм, а что не ритмично, то нежизнеспособно. Она рвалась к друзьям, потому что с ними можно было не говорить, не думать. У них в школе был какой-то клуб, они облазали все окрестные горы и степи, выходили в море на самодельной яхте, Женя страшно боялась, а Вера ненавидела Женю. Между ними никогда не было особенной близости, но до такого бешенства не доходило: Вера орала на мать, а мать съеживалась и виновато оглядывалась, словно умоляла присутствующих не принимать все это всерьез. Девочка трудная, созревание пришлось на голод… Женя с вечной своей нестеснительностью — ей все духовное и плотское казалось одинаково нестыдным и подлежащим обсуждению, — шепнула Дане, что у Веры даже не установился цикл, вот отчего, может быть, все эти срывы, — но что-то Даня усомнился в верином излечении от злости, когда установится цикл. На него Вера не смотрела вовсе. Когда она орала, все лицо у нее шло неровными пятнами, и она все время чесала ладони. Дане страшно было подумать, что с ней будет через год-два.
Один раз Женя улучила минуту поговорить с ним наедине — Вера убежала к Левшиным, у них была дочь-ровесница. Левшины тоже должны были уехать, вымолили себе Саратов, где у Никиты Андреевича жил брат; левшинской Инне было четырнадцать, она была спокойная, вялая, глупая, но Вере годились все, лишь бы не свои.
— Даня, расскажи же, — робко попросила Женя. — Ты почти не писал.
— Я писал, Женечка. Но разве все напишешь? Там совсем другая жизнь.
— Ах, я знаю. Я ведь в Петербурге жила семь лет. Ты думаешь, у тебя тетка — глупая провинциалка? Я дружила со всем философским обществом, я в «Новом пути» печаталась…
— Женечка, я знаю. Но теперь там люди, про которых ты вряд ли знаешь. Очень изменилось все.
— Назови хоть кого-то, — не отставала она.
— Ну, Савельева, — нехотя сказал Даня.
— Господи, так я ее прекрасно знаю! У нее с Валерианом был роман и потом какой-то скандал. Но мы тогда не принимали ее всерьез, она считалась третий сорт.
— Она говорила, что знает вас. Тебя и маму.
Про Женю она ничего не говорила, да уж ладно.
— Скажи, а что это за кружок, в который ты ходишь? Ты все на бегу, а ведь я хочу знать.
Он попытался рассказать, ненавидя себя за косноязычие. В его пересказе все выходило плоско. И противней всего было то, что Женя понимающе кивала, словно и в самом деле могла что-то понять.
— Да-да, — говорила она, — я помню, все это было. Была Анна Рудольфовна и все это… Ты знаешь, что она приезжала однажды даже в Судак? Она предлагала Вячеславу три пути — розенкрейцерский, египетский и христианский… он выбрал розенкрейцерский, но потом сделал оплошность, и она исчезла.
Даня смутно помнил, кто такая Анна Рудольфовна, и не желал выслушивать аналогии между антропософией и учением Остромова.
— Женя, это все другое! Он совсем иной!
— Подожди, но чем же иной? Ведь все это было, и розенкрейцеры, и алхимия. Вячеслав чуть с ума не сошел, потом женился на падчерице, и все прошло…
— Но при чем здесь Вячеслав с падчерицей! — воскликнул Даня, потеряв терпение. — Прости, Женечка, — тут же спохватился он, испугавшись, что сейчас уподобится мерзкой Вере. — Прости. Я не хочу кричать и не хочу говорить про это вообще. Но пойми, что это совсем другое. Прежде всего потому, что другой человек он сам. Нет двух одинаковых учений, потому что нет одинаковых учителей.
— Но и усовершенствовавшись, — закивала Женя, — будет всякий как учитель его. Это очень, очень хорошо, что ты его любишь. Но просто — Даня, я очень бы не хотела, чтобы ты творил кумира…
Женя, можно ли все время цитировать одну книгу, хотя бы и эту! — хотел воскликнуть он, но сдержался. Время было такое, что всякому нужна опора, хоть какая — хоть дети, хоть родители, хоть книга. Без нее человек делался киселем. Не отнимать же. Да и если голод двадцать первого года не отнял у Жени эту опору, когда — он запрещал себе это помнить — непохороненные трупы валялись по окраинам по три дня… А Женя — они все съехались тогда, вместе было легче, — растягивая на два часа единственный кусочек хлеба (второй отдавала Верке, отдала бы и этот, но без нее Верка бы погибла) с горящими глазами, с трясущейся от слабости головой повторяла: вот как оно подошло… кто бы думал, что Христос откроется с этой стороны?! Ей казалось, что в голодном бреду открывается Христос. Откровения во время изнурительных постов были, наверное, той же природы.
— Дело не в кумире, — трудно подыскивая слова, говорил Даня. С тетками было чудовищно трудно — именно потому, что они были свои и помнили его ребенком; с Марьей, кажется, даже легче, потому что она хоть не претендовала что-то знать. Женя была ближе и потому гораздо, гораздо дальше — как тот, кто остановился на полпути, странным образом дальше от цели, чем тот, кто вообще не стронулся с места. Это, вероятно, потому, что конец в начале, финиш в старте, и тот, кто не дошел, — одинаково далек от начала и от конца.
— Говори, говори, я слушаю.
— Дело в том, — нашел он наконец формулу, — что теперь другое время, что одно — предчувствовать, и совсем другое — среди этого предчувствованного жить… Что-то было вам предсказано, и вам являлось, и вы строили себе догадки — этих догадок было очень много, потому что догадок вообще всегда много, а истина одна. (Ему вспомнилась вдруг безбожная графомания Дробинина — оказывается, и в ней было зерно, даже в дурака ударяет молния: пристань, пристань, небо хоть и мглисто, а река видна до дна. Пристань, я устал от истин, истин много, истина — одна). Тогда все было как штриховой рисунок, а сейчас голая линия. И нам, которые живут среди этой голизны, — не нужна приблизительность. Мы не можем себе позволить перебирать способы, как Вячеслав, — сегодня я мистик, завтра, я не знаю, розенкрейцер, послезавтра египтянин… Сейчас нужен человек, который укажет четкий путь. И на этом пути надо обрести силу, потому что без нее сегодня немыслимо. И этот человек должен быть веселый и твердый, потому что все другое недостаточно…
— Ах, но и это было, — сказала она с недоумением. — Был Ницше, и все это веселье…
— Женя! — возопил Даня, хватаясь за голову. — Женечка, почему тебе на все надо навесить ярлыки! Вот ты скажешь — Ницше, и все понятно, скажешь — тамплиеры, и вопрос закрыт. Ярлыки ни на что уже не отвечают, то время кончилось, — он сам не замечал, как цитирует Мартынова, — то время отрубилось, как хвост! Его отбросила ящерица и побежала дальше. Теперь ничего этого нет, и каждое слово звучит по-другому. Посмотри! — Он указал на молочно-синее море, над которым еле розовела последняя закатная полоска. — Вот ты подойдешь к нему и скажешь: прощай, свободная стихия. Утром, когда все дрожит и пылает, ты это скажешь по-одному, а сейчас по-другому, а бывает оно такое, что ты это скажешь даже радостно. Что я тебе объясняю?! В общем, сейчас оно такое. Иногда его никакими красками не изобразишь, а сейчас можно было бы изобразить одной линией, или двумя красками. Это все такая пошлость, Женя! Хочешь, я тебе поясню иначе? Я все думаю, какая разница между нашим временем и тем, когда ты жила в Петербурге. Это не про разницу между нами и вами — я никогда не буду от тебя сильно отличаться, кровь есть кровь, — но про разницу Петербурга с Ленинградом, если хочешь.
Он помолчал. Ему трудно было это сказать.
— Но, в общем, вот был этот невероятный ренессанс всего. Всех искусств, всего вообще. И ты не поверишь, Женя, какой пошлостью это все глядит сейчас. А у нас — да, и плакаты, и чистки, и ужасная «Красная газета», но, Женя, этим отковывается удивительное поколение. (Он говорил теперь быстро, торопясь, чтобы Женя не вставила что-нибудь вроде «страданием очистимся» или «дробя стекло, кует булат»; говорил и за себя, и за Мартынова, и за Надю в особенности, и даже, как ни странно, за Варгу — кто же виноват, что глупая, а все-таки хорошая, дикая). У нас там совсем другие люди, и, может быть, они бы не понравились тебе. В них что угодно есть, Женя, но пошлости нет. И это потому, — страшно сказать, но так, — что та ваша свобода и тот расцвет были все-таки очень, Женечка, второсортные, как у Блока каждое второе стихотворение второсортное. А наша сегодняшняя несвобода и наш упадок — очень первосортные, первоклассные, и только это важно. Понимаешь? Только это. Россия вообще не очень ценит правильные там или неправильные взгляды. Россия ценит сорт. И вот Остромов — это не антропософия и не Анна Рудольфовна, Женечка, это первый сорт. А чему он там учит, куда ведет… важно, что он от этого уводит, — Даня широко обвел горизонт, хотя получалось, что Остромов уводит от моря; но Женя должна была понять.