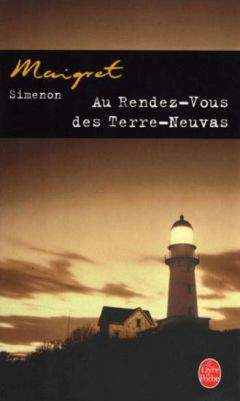Паскаль Мерсье - Ночной поезд на Лиссабон
Номер Грегориуса был с видом на Старый и Новый кафедральные соборы. Когда пробили часы, он подошел к окну и устремил взгляд на ярко освещенные фасады. Сан Хуан де ла Крус жил здесь. Флоранс, когда писала о нем диссертацию, много раз бывала здесь. Она ездила с сокурсниками — ему было не до того. Он не выносил, как болтливо они восторгались мистическими стихами великого поэта, она и другие.
О поэзии нельзя болтать. Ее надо читать. Чувствовать на языке. Жить ею. Ощущать, как она тебя подвигает, преображает. Как благодаря ей твоя жизнь обретает форму, цвет, мелодию. Ею не восторгаются всуе и уж тем более не превращают в пушечное мясо для своей карьеры.
В Коимбре его озадачил вопрос, не упустил ли он другую возможную жизнь, связанную с университетом. Ответ: нет. Он заново пережил те минуты в «Ля Куполь», когда сидел с Флоранс и ее болтливыми коллегами, и как положил их на обе лопатки своим бернским говором и бернскими познаниями. Нет!
Потом ему снилось, что Аурора кружит его под органную музыку в кухне Силвейры, кухня все раздвигается, он круто ныряет вниз и отдается подводной струе, пока не теряет сознание… и не просыпается.
На завтрак он спустился первым. Оттуда направился к университету и расспросил, как пройти на исторический факультет. Лекция Эстефании Эспинозы начиналась через час. Тема: «Изабель ля Католика».
Во внутреннем дворе университета под аркадой толпились студенты. Грегориус не понял ни слова из их беглого испанского и решил пораньше занять место в аудитории, просторном помещении, обшитом панелями, со скупым монастырским изыском, в передней части которого возвышалась кафедра. Аудитория быстро наполнялась. И хотя была достаточно большой, все скамьи были заняты уже задолго до звонка, а в проходах студенты расселись прямо на полу.
«Я ненавидела ее: длинные черные волосы, соблазнительная походка, коротенькие юбочки…» — Адриана запомнила ее девчонкой едва за двадцать. Женщине, вставшей сейчас за кафедру, было к шестидесяти. «Он видел перед собой ее сияющие глаза, необыкновенный, почти азиатский цвет лица, заразительный смех, покачивающуюся походку — и не хотел, чтобы все это перестало существовать», — говорил Жуан Эса о Праду.
«А кто бы захотел?» — подумалось Грегориусу. Даже в этом возрасте. И уж тем более, когда она заговорила. У нее был приглушенный прокуренный альт, резкие испанские слова она произносила с португальской мягкостью. С самого начала она отключила микрофон, и не напрасно — этот голос мог заполнить собой объемы собора. И взгляд. Взгляд, пробуждавший желание, чтобы лекция никогда не кончилась.
Из того, что она говорила, Грегориус мало что понимал. Он слушал ее как музыку, временами прикрывая глаза, а то концентрируясь на жестах. Рука, небрежно откидывающая со лба прядь с проседью; вторая, серебряной ручкой подводящая в воздухе черту под особо важной информацией; локоть, когда она опиралась на кафедру; обе распростертые руки, когда обнимала кафедру, переходя к чему-то новому. Девочка, когда-то служившая на почте; девушка с феноменальной памятью, в которой хранились тайные сведения Сопротивления. Женщина, которой не нравилось, когда О'Келли обнимал ее на улице за талию; женщина, севшая за руль автомобиля у голубой практики и ради своей жизни добравшаяся до края света. Женщина, не пожелавшая, чтобы Праду взял ее в свое плавание, нанесшая обиду и вселившая разочарование, которые дали ему величайшее и самое болезненное бодрствование всей его жизни, сознание, что гонка за блаженством окончательно проиграна, чувство, что пламенно начатая жизнь угасла и рассыпалась в пепел.
Стук и возня подымающихся студентов заставили Грегориуса вздрогнуть. Эстефания Эспиноза сложила материалы лекции в папку и спускалась по ступеням. Ее обступили студенты. Грегориус вышел и встал в сторонке. Встал так, чтобы издали заметить ее и решить, стоит с ней заговаривать или нет.
Наконец она вышла в сопровождении молодой женщины, с которой разговаривала как с ассистенткой. У Грегориуса сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она проходила мимо. Он последовал за ними, вверх по лестнице и вдоль по длинному коридору. Ассистентка попрощалась, и Эстефания Эспиноза скрылась за одной из дверей. Грегориус прошелся мимо двери и бросил взгляд на табличку. «Имя оказалось для нее недостаточным».
Он повернул назад и ухватился за перила лестницы. Спустившись, с минуту постоял, а потом снова побежал наверх. Пришлось обождать, пока сердцебиение успокоится. Лишь затем постучал.
Она уже надела пальто и собиралась уходить. Заметив его в дверях, вопросительно посмотрела.
— Я… можно с вами на французском? — спросил Грегориус.
Она кивнула.
Он, запинаясь, представился, а затем, как уже делал за последнее время не раз, вынул томик Праду.
Ее светло-карие глаза сузились, она смотрела на книгу, даже не протянув руки. Секунды убегали.
— Я… Почему… Заходите.
Она подошла к телефону и сказала кому-то на португальском, что сейчас не может прийти. Потом сняла пальто. Предложила Грегориусу сесть и прикурила сигарету.
— Там что-то есть обо мне? — спросила она, выпуская дым.
Грегориус отрицательно покачал головой.
— Откуда же вам обо мне известно?
Он рассказал. Об Адриане и Жуане Эсе. О фолианте, о мрачном, внушающем страх море, который Праду читал до последнего дня. О справке, наведенной букинистом. О тексте на суперобложках ее книг. Об О'Келли он не упомянул. И о рукописных записках мелким почерком тоже ничего не сказал.
Теперь она захотела посмотреть томик. Она читала. Раскуривала новую сигарету. Потом рассматривала портрет.
— Так вот каким он был раньше. Никогда не видела фотографий той поры.
— Я… я вовсе не имел намерения делать в Саламанке остановку, — сказал Грегориус. — А потом не смог устоять. Образ Праду, он… он без вас какой-то неполный. Я, конечно, понимаю, бестактно так просто врываться сюда…
Зазвонил телефон. Она не стала брать трубку. Отошла к окну.
— Не знаю, хочу ли я этого. Говорить о прошлом, имею я в виду. И уж ни в коем случае не здесь. Можно мне взять с собой книгу? Я хотела бы ее почитать. Подумать. Приходите вечером ко мне домой. Тогда я скажу вам, готова ли. — Она протянула свою визитку.
Грегориус купил путеводитель и пошел посещать монастыри, один за другим. Он не был любителем достопримечательностей. Если люди за чем-то ломились, упрямо пережидал в сторонке. У него вошло в привычку и бестселлеры читать годы спустя после выхода. И сейчас его гнало отнюдь не туристское любопытство. Ему потребовалось на размышление полдня, прежде чем он начал понимать: занимаясь Праду, он изменил свое отношение к соборам и монастырям. «Что может быть серьезнее поэзии слова?» — возразил он когда-то Рут Гаучи и Давиду Леману на упрек, что относится к Писанию несерьезно. Это связало его с Праду. Может быть, прочнее самых прочных уз. И все же кажется, этот человек, превратившийся из пылкого служки в безбожного пастора, сделал еще один шаг. Куда, это Грегориус и надеялся понять, бродя по галереям крестового хода. Удалось ли ему распространить поэзию библейского слова на здания, воздвигнутые по этим словам? В этом ли смысл?