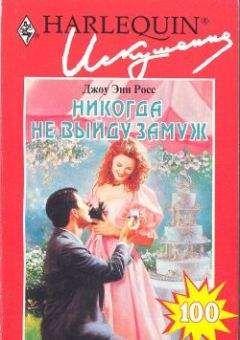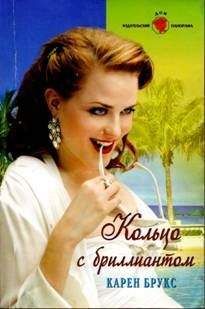Ричард Форд - День независимости
– Не читал, – печально сообщает он. – Но давай-ка я тебе кое-что покажу, Фрэнк. Тебя это удивит.
Ирв сует руку в задний карман своих спортивных штанов и вытаскивает бумажник со множеством отделений, стоящий, вероятно, сотен пять. Сосредоточенно глядя в него, он перебирает большим пальцем какие-то бумажки и кредитные карточки, а затем выуживает одну из них, ставшую – от времени, по-видимому, – мягкой.
– Я ее не один год с собой ношу. Уже пять лет. Скажи мне почему.
Перевернув карточку, я поднимаю ее поближе к глазам и поворачиваюсь спиной к солнцу. Ирв потрудился заламинировать ее, стало быть, она для него важна. И это не кредитная карточка, а фотографическая, черно-белая, накрытая несколькими слоями пластика и оттого ставшая туманной и тусклой, как воспоминание. Четыре человека в достойной семейной позе – двое родителей, двое мальчиков-подростков – стоят на ступенях какой-то парадной веранды, сощурясь, улыбаясь, опасливо глядя в камеру, в залитый светом двор, озаривший их лица. Кто они? Где сняты? Когда? Впрочем, я мигом понимаю, что это нуклеарная некогда семья Ирва, а снимок сделан в Скоки, в один из годов его отрочества, когда времена были тихие и ничего имитировать не приходилось.
– Здорово, Ирв. – Я поднимаю взгляд на него, потом снова опускаю на фотографию, вежливости ради, и отдаю ее Ирву, готовый возобновить исполнение моих отцовских обязанностей, погрузиться в должное напряжение.
Где-то неподалеку раздается влажное «твоп-твоп-твоп», и я понимаю, что при больнице имеется вертолетная площадка для доставки нуждающихся в срочной помощи пациентов вроде Пола и что прилетела Энн.
– Это же мы, Фрэнк, – говорит Ирв, изумленно глядя на меня. – Ты, Джейк, твоя мама и я. В Скоки, шестьдесят третий год. Видишь, какая она красивая, хоть и похудела уже. Мы стоим на веранде. Ты даже ее не помнишь?
Ирв смотрит на меня, губы у него влажные, глаза за очками счастливые, он опять протягивает мне свой драгоценный артефакт, чтобы я еще раз рассмотрел его.
– Пожалуй, что нет.
Я снова без всякой охоты заглядываю в это маленькое, узкое окно в мое давно минувшее прошлое и чувствую, как сердце скручивается болью – неожиданной, нисколько не схожей с Ирвовым «дуновением опасности», – и возвращаю фотографию. Надо же, родную мать не узнал. Может, мне стоит в политики податься?
– Вообще-то, и я тоже. – Ирв в восьмимиллионный раз одобрительно смотрит на себя юного, пытаясь высосать из своего обличия некую летучую синхронистичность, а затем встряхивает головой и укладывает фотографию в бумажник, к другим заветным ценностям, и засовывает его в задний карман, вот пусть там и лежит.
Я снова окидываю взглядом небо, пытаясь найти вертолет, но не вижу ничего, даже стрижей.
– Не так уж и страшно, вот что я скажу, – говорит Ирв, примиряя свои ожидания с моей скудной реакцией.
– Ирв, мне лучше пойти в больницу. Я совершенно уверен, что слышал, как сел вертолет моей жены.
– Эй, не сходи с ума. – Тяжкая, как корабельные сходни, длань Ирва снова ложится мне на плечо, а мое сердце начинает отстукивать собственные «твопетти-твоп». – Я хотел показать тебе, что имею в виду, когда говорю о цельности. Тут ничего опасного нет. Мы вовсе не должны резать себе руки и смешивать кровь – или еще что.
– Я могу и не соглашаться с тобой ни в чем, Ирв, но я…
И тут я на миг полностью лишаюсь способности дышать, на меня нападает едва ли не удушье, а с ним и паника – я задохнусь, срочно требуется рывок Хеймлиха (а знает ли Ирв, как его делают, и согласится ли сделать?). Зря я поперся в «Молочную Королеву», зря позволил уютному раздолью маленького города обморочить меня, завязать мне глаза, совсем как Полу, соблазнить мыслью, что я снова способен на свободный полет – вопреки всем свидетельствам моей отягощенности.
– …Хочу, чтобы ты знал, – успеваю сказать я перед вторым, менее страшным перехватом дыхания, – что уважаю твои взгляды на жизнь и считаю тебя классным парнем.
(Когда не знаешь, что сказать, ищи опору в формуле, известной тебе со времен братства «Сигма Хи»: Орнстайн = Классный Парень. Давайте примем его, хоть он и жидяра.)
– Я вовсе не думаю, что обманулся в тебе, Фрэнк, – говорит Ирв. Сейчас он – непоколебимый руководитель группы, которая разрабатывает имитатор рыскания-пикирования-пробега: всегда на высоте, даже если нам, всем прочим, набрать ее не удается. Впрочем, и сам я был таким (не единожды), и больше меня на эту удочку не поймаешь. Ирв вступает в свой собственный Период Бытования со всеми его сомнительными прикрасами, а я, похоже, покидаю мой, входя в неуправляемый штопор. Мы провели вместе день, поговорили, нашли общий язык, достойный и серьезный. Однако жизни наши не имеют общей границы, хоть Ирв мне и нравится.
Я направляюсь к больничным дверям, сердце бухает, челюсть тяжела, как чугунок, но напоследок даю Ирву лучшее, на какое способен, обещание нашей будущей дружбы: «Надо будет попробовать как-нибудь рыбу вдвоем половить». Оборачиваюсь, дабы подчеркнуть взглядом серьезность этих слов. Он стоит – одна длинная нога во «вьетнамке» на краю травы, другая на дороге, кардиган кажется еще ярче под солнцем. Я знаю, он безмолвно желает нам обоим спокойно дотрюхать до следующего горизонта.
12
Энн одиноко стоит посреди приемной отделения скорой помощи – в застегнутом на все пуговицы бронзоватом плаще и поношенных белых кроссовках на босу ногу. Выглядит она так, точно голова у нее забита тревогами и ни от одной из них встреча со мной ее не избавит.
– Я стояла здесь, смотрела сквозь двери, как ты пересекаешь лужайку, и только когда ты подошел, узнала тебя. – Она обескураженно улыбается, вынимает руки из карманов плаща, легко целует в щеку, и мне становится чуточку лучше (не скажу, чтобы совсем хорошо). Сейчас мы меньше, чем когда-либо, близки, и потому этот поцелуй ничего значить не может. – Я привезла с собой Генри Барриса. Из-за этого и запоздала, – говорит она, сразу переходя к делу. – Он уже осмотрел Пола, изучил его карту и считает, что нам следует немедленно отправить мальчика в Йель.
Я ошеломленно смотрю на нее. Я и вправду пропустил все важное: ее прилет, новое обследование, пересмотр прогноза.
– Как? – наконец спрашиваю я и окидываю беспомощным взглядом яблочно-зеленые и оранжево-розовые стены приемной, словно желая сказать: «Ладно, сама видишь, какую лепту внес я — Онеонту. Может, у нее и смешное название, может, и городок этот не из лучших, но положиться на него точно можно, и к тому же мы уже здесь».
– Мы заказали другой вертолет, который доставит его туда. Возможно, он уже прилетел.
На меня она смотрит сочувственно.
За стойкой регистрации сидит теперь новая бригада: две миниатюрные, опрятные кореянки в высоких колпаках студенток католической медицинской школы заполняют, точно писари, некие ведомости, а компанию им составляет апатичная блондинка (местная), полностью занятая происходящим на экране ее компьютера. О том, кто я и что я, ни одна из них не знает.
– А что говорит доктор Тисарис? – Интересно знать, где она, хорошо бы ей поучаствовать в нашем синклите. Не исключено, впрочем, что Энн уже отпустила и ее, и доктора Ротолло, заменив их, пока я услаждался «обливным», собственной бригадой хирургов. Мне хотелось бы извиниться перед докторшей за недостаток доверия.
– Она только рада передать его в другие руки, – говорит Энн, – особенно в йельские. Мы просто подпишем необходимые бумаги. Одну я уже подписала. Доктор очень профессиональна. И знает Генри со времен своей ординатуры.
Ну разумеется. Неожиданно Энн взглядывает мне прямо в глаза, ее серые крапчатые райки расширяются, на лице выражение откровенной мольбы. Обручального кольца на пальце у Энн нет (возможно, ей хочется выглядеть беспомощной женщиной с оголенными нервами).
– Фрэнк, я хочу это сделать, понимаешь? Мы сможем добраться до Нью-Хейвена за пятьдесят минут. Там его уже ждут. Полчаса уйдет на подготовку к операции, около часа займет она сама. Проведет ее Генри. Так будет лучше всего.
Энн глядит мне в глаза, больше ей ничего говорить не хочется, она пошла со своей лучшей карты. Однако не удерживается и добавляет:
– Хотя, конечно, его могут прооперировать и в Онеонте – доктор Тисарис или кто-то другой, – и все обойдется.
– Я понимаю, – говорю я. – Но каков риск перелета?
– Генри считает, что риск от операции здесь выше. А Генри провел около двух тысяч подобных операций.
– Неплохое число, – говорю я. – Он кто – школьный приятель Чарли?
– Нет. Генри старше, – коротко отвечает Энн.
Не исключено, что Генри и есть наш таинственный мистер, такие почти всегда прикрываются вполне невинными масками. В данном случае маской человека постарше, знающего толк в помощи жертвам губительного времени (наподобие Энн); человека, носящего имя ее отца, а это кармический плюс. К тому же, когда он вернет Полу зрение (после нескольких дней томительного ожидания повязки снимут и Пол снова узрит свет), будет гораздо легче обрушить на Чарли новость, а тот, конечно, покривившись (от благодарности, быть может), отойдет в сторонку, переигранный настоящим и последним спасательным буем. Чарли, может быть, и пустое место, но игрок он честный. Мне до него далеко.