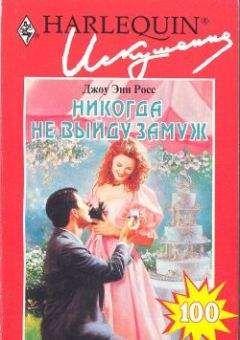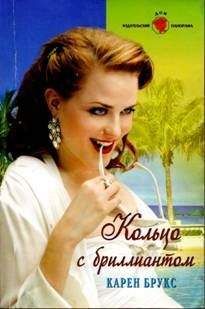Ричард Форд - День независимости
– Ты хочешь узнать, как все произошло? – спрашиваю я.
– Ты сказал, что его ударил мяч около тренажера.
Энн извлекает из кармана плаща солидных размеров конверт и делает шаг в сторону регистрационной стойки, давая понять, что я должен последовать за ней. В конверте – еще один формуляр выписки Пола. Я выписываю моего сына в божий свет. Слишком рано.
– Его ударило мячом внутри тренажерной клетки.
Энн молчит – просто смотрит на меня с таким видом, точно ей кажется, что я слишком напираю на ненужные подробности.
– На нем не было шлема, ничего такого? – спрашивает она, еще на шаг подступая к столу и увлекая к нему меня.
– Нет. Он разозлился на меня и просто вбежал в клетку, постоял там, пока машинка выбросила пару мячей, и потом подставил лицо одному. А я опустил монеты в счетчик.
Я чувствую, как мои глаза – в третий раз за срок, меньший двадцати четырех часов, – наполняются жаркой, нежеланной влагой.
– О, – выдыхает Энн.
Одна из восточных медсестер близоруко всматривается в меня и снова возвращается к своим бумажкам. В приемной скорой помощи слезы – обычное дело.
– Не думаю, чтобы он хотел лишиться глаза, – говорю я. – Но, наверное, хотел получить по морде. Узнать, на что это похоже. У тебя такого желания никогда не возникало?
– Нет, – говорит Энн и покачивает головой.
– У меня возникало, а я вовсе не псих, – сообщаю я, пожалуй, слишком громко. – После смерти Ральфа. И после нашего развода. Я был бы рад, если бы меня крепко двинули в глаз. Все-таки было бы легче того, что мне тогда приходилось делать. Я говорю об этом, потому что не хочу, чтобы ты считала его чокнутым. Он не чокнутый.
– Скорее всего, это был просто несчастный случай, – умоляющим тоном произносит она. – Ты ни в чем не виноват.
При всей ее выдержке глаза Энн тоже влажны от слез – вопреки ее усилиям. Я же не должен видеть ее плачущей, помните? Это стало бы отступничеством от вероисповедания развода.
– Я виноват, – яростно выпаливаю я. – Тебе ведь это даже во сне привиделось. Он не надел щитка, защитного костюма, шлема, ничего. Тебя там не было.
– Не кори себя так, – говорит Энн и – поверите ли? – улыбается, хоть и бледно. Я встряхиваю головой, утираю левый глаз, что-то много в нем слез набралось. По моему своду правил и ей видеть меня плачущим не положено. Да нам с Энн и вовсе ни черта не положено – при наших-то отношениях. Только это одно и положено.
Она вздыхает глубоко и неуверенно, тоже встряхивает головой, словно давая понять: не говори, чего не можешь знать, узнаешь – тебе же хуже будет. Левая ее, лишенная обручального кольца рука поднимается словно сама собой и кладет конверт на зеленую пластиковую плоскость стола регистратуры.
– Я не считаю его чокнутым. Наверное, он сейчас просто нуждается в помощи. Может быть, он хотел привлечь твое внимание.
– В помощи мы нуждаемся все. А я пытался заставить его сделать хоть что-нибудь. – Внезапно меня начинает злить, что Энн знает, как все мы должны поступать и почему, – да только знает неправильно. – И я буду корить себя. Когда твою собаку переезжает машина, виноват ты. Когда твоему ребенку вышибают глаз – тоже ты. Я же собирался управлять его рисками.
– Ну ладно. – Она опускает голову, подступает ко мне, снова берет меня за рукав – как сделала, когда поцеловала в щеку, когда уговаривала согласиться на отправку сына в Йель. И прижимается щекой к моей щеке. Тело ее обмякает, словно давая понять, что она старается – старается протиснуться и вернуться назад между стенами, которые состоят из многих лет, слов и событий, старается услышать удары моего сердца, говорящие, что оба мы пока живы, и живы не как-то еще, но вместе.
– Не злись, – шепчет она. – Не злись на меня.
– Я не злюсь на тебя, – шепчу я в ее темные волосы. – Тут что-то другое. Не знаю, как это назвать. Возможно, названия не существует.
– Да ведь тебе как раз это и нравится. Верно?
Энн держит меня за руку, хоть и не слишком крепко, медицинские сестры воспитанно отворачиваются от нас.
– Бывает, – отвечаю я. – Бывает, и нравится. Но не сейчас. Сейчас я хотел бы найти название. Но, похоже, я завяз где-то между словами.
– Ну ничего. – Я чувствую, как тело Энн наливается силой, отстраняется от меня. Она-то название отыскала бы. Таков ее путь к истине, выверенный. – Подпиши эту бумагу, ладно? И мы сможем сделать следующий шаг. Привести его в порядок.
– Конечно, – отвечаю я и подхожу к столу. – Буду лишь рад.
И разумеется, подписываю.
Генри Баррис оказывается франтоватым, белоголовым, румяным маленьким медикусом с маленькими ладошками. Полотняные брюки, парусиновые туфли на толстой подошве (такие же, как у меня, но подороже) и трикотажная розовая рубашка – от «Томаса Пинка», это как пить дать. Ему шестьдесят, глаза у него светлые, чистейшие, известняково-голубые, говорит он со сдержанной, доверительной медлительностью уроженца юга Южной Каролины и при разговоре придерживает меня за запястье; по его словам, с сыном моим все будет хорошо. (Я мигом понимаю: никаких вероятий того, что он и Энн предаются любовным шалостям, не существует, главным образом из-за его роста, но также и потому, что Генри славен преданностью его бесценной, неправдоподобно длинноногой, да к тому же еще и богатой жене, Джонни Ли Баррис, наследнице состояния, созданного производством гипса.) Энн рассказала мне, пока все мы стояли в ожидании, точно старые друзья в аэропорту, что Баррисов считают образцовейшей из семей и в привычном к разводам Дип-Ривере, и вообще в Нью-Хейвене, где Генри возглавляет глазную клинику «Йель-Банкер», в которой проводятся – в духе бескорыстного служения человечеству и благополучию семей – тянущие на Нобелевку исследования. Разумеется, первейшим кандидатом на ночь любовных утех его назвать невозможно, ну а кого, собственно, можно-то?
– Нуте-с, Фрэнк, позвольте сказать вам, что в первый раз мне довелось провести процедуру наподобие той, которой я собираюсь подвергнуть юного Пола, лет двенадцать назад, я тогда подвизался в «Дьюке» приглашенным профессором офтальмологии. – Генри уже показал мне сделанный им от руки набросок глаза Пола и теперь скручивает листок в мятую трубочку, точно ненужный рекламный проспект (разговор идет в тонах втайне снисходительных, я ведь как-никак первый муж второй жены его друга и, скорее всего, козел, какого никто в Йеле не видывал). – В тот раз пострадавшей была корпулентная чернокожая дама, какие-то мальчишки кидались в ее дворе конским навозом и угодили ей в глаз. Мальчишки тоже были черными, так что никакого расизма.
Мы стоим на тыльной лужайке больницы, рядом с сине-белой посадочной площадкой, где замер на своих полозьях, неторопливо вращая винтом, красный «Сикорский» – «воздушная скорая». Отсюда, с вершины небольшого холма (прекрасное место для пикника), видны темные Катскиллы, изборожденные дымчатыми долинами, что тянутся на юг, к синему небу, на среднем плане – огороженный прямоугольник теннисных кортов (все заняты), а за ними – ведущее к Бингемтону и назад к Олбани шоссе 1-88. Шум движения сюда не доносится, и оттого пейзаж выглядит идиллическим.
– Перед тем как мы дали черной леди наркоз, она сказала мне: «Доктаа Баррис, если б нынешний день был рыбой, я бы выбросила его обратно в воду». И улыбнулась широчайшей улыбкой, показав все свои старые зубы, а через минуту уже спала.
Генри округляет глаза и старается подавить, притворно сжимая губы, гикающий хохот – представление, которое он привычно разыгрывает у постели больного.
– И что с ней стало? – Я осторожно высвобождаю запястье, взгляд мой никак не может оторваться от вертолета ярдах в тридцати от меня. Двое санитаров деловито загружают в него Пола Баскомба, скоро мы помашем друг другу на прощание.
– Ну так, а я о чем. Мы ее мигом в порядок привели, как приведем сегодня вашего Пола. Она видит все так же ясно, как вы, – по крайней мере, видела в то время. Сейчас-то уж наверняка умерла. Ей был восемьдесят один год.
Наш разговор вселяет в меня абсолютную веру в Генри Барриса. Собственно, он напоминает мне более молодого, сильного, более интеллигентного и несомненно менее скользкого Теда Хаулайхена. Я ничего не имею против того, чтобы он заштопал сетчатку моего сына, не чувствую, что это станет ужасной ошибкой и сожаления вскипят во мне, как расплавленный металл, чтобы затвердеть потом навсегда. Тут дело правильное во всех отношениях и именно по этой причине редкое. «Самый верный путь, – сказал Генри Баррис, – осторожность, потому что основной предмет наших тревог составляют проблемы, видеть которые мы не можем. (Очень похоже на покупку дома.) А в Йеле имеются врачи, которые на все уже насмотрелись». И это правда, поспорить готов; возможно, мне следует расспросить его о причине моих содроганий.