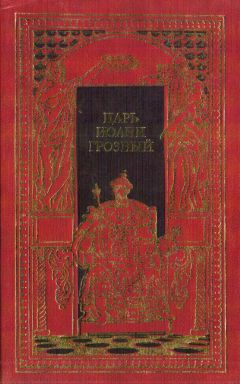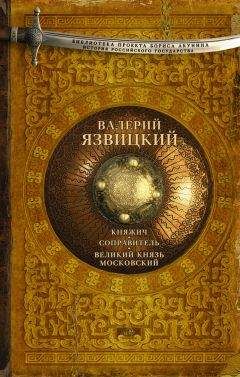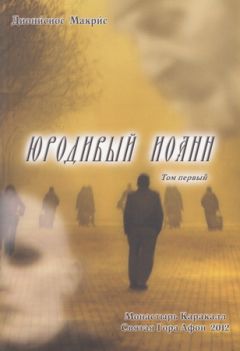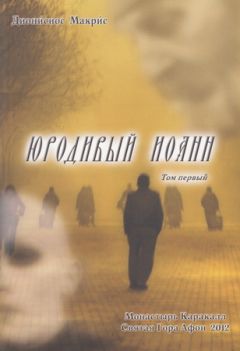Пётр Самотарж - Одиночество зверя
— А если на выборы пойдёт только кто-нибудь один из нас?
— Тогда не случится ничего нового.
— А если пойдём оба, но победа останется за мной?
— Формально — ничего нового. Действующий президент переизбрался на второй срок — такое мы уже видели. Ты поразишь общественное мнение только в том случае, если отправишь в отставку Покровского и начнёшь проводить собственную политику.
— Я четвёртый год провожу собственную политику.
— Возможно, но никто не верит.
— Не надо верить, достаточно просто посмотреть и сравнить. Скажи, пожалуйста, разве экономический курс не сменился в сторону большей свободы предпринимательства? Разве не ослаблено давление государственных структур на бизнес?
— Наверное, в чём-то ослаблено. Но, честно говоря, у всех в голове одна мысль: Покровский ставит твоими руками эксперимент. Если некоторая либерализация законодательства даст положительный результат, он вернётся и просто воспользуется плодами твоих трудов. Если нет — он, опять же, вернётся и всё исправит. На него не ляжет ответственность за допущенные ошибки, а тебя ему не жалко.
— Это не эксперимент, это моя политика. Моя! Каким образом, по-вашему, в России премьер-министр может диктовать свои условия президенту? Всё, что известно о нашей Конституции в мире, её гиперпрезидентский характер. Хотя, между прочим, в своё время её проект был одобрен Венецианской комиссией, то есть Конституция на международном уровне официально признана демократической.
— Конституция, может быть, и президентская, но корректировать законодательную базу ты всё равно мог только при поддержке парламента.
— Разумеется, как же иначе? У меня нет законодательных полномочий.
— А в парламенте безраздельно царствует Единая Россия.
— В каком смысле «безраздельно царствует»? У неё абсолютное большинство, но несогласные могут направить в Конституционный суд любой закон, как и указ президента. Абсолютное большинство в парламенте у одной партии — вовсе не российское изобретение, и никакого противоречия принципам демократии и законности оно собой не представляет.
— Кто же спорит? Я просто хочу сказать, что все твои либерализаторские инициативы получили поддержку единороссов.
— Получили. Значит, они ущербны или ошибочны?
— Значит, Покровский тоже не возражал.
— Почему?
— Потому что во всей России никто, кроме тебя, никогда не поверит, будто единороссы могут проводить политику поперёк планов Покровского.
— И каковы же доказательства?
— Какие доказательства?
— Кто-нибудь доказал, что Единая Россия работает исключительно на Покровского и самостоятельной политической силой не является?
— Разве кто-нибудь из её лидеров хотя бы раз осудил хоть одно действие или слово генерала?
— А разве генерал когда-нибудь осудил публично хоть один политический шаг Единой России как партии?
— Что ты имеешь в виду?
— Я имею в виду, что они в равной степени не считают нужным демонстрировать публике процесс совместной выработки решений, но наше абсолютистское общество трактует их отношения как подчинение партии Покровскому, а не наоборот. Тебе не приходило в голову, что генерал действует по указке единороссов?
— Не приходило.
— Почему же?
— Потому что мы живём в России.
— То есть, в дикой диктаторской стране с угнетённым народом и развращённой бездарной элитой?
— Всё не так одномерно.
— Всё совсем не одномерно. Как, по-твоему, нужно стране для решения многих финансовых проблем, в числе прочего, и увеличение пенсионного возраста?
— Думаю, нужно.
— Почему же его не поднимают?
— Боятся социальных волнений.
— То есть, кровожадная коррумпированная власть, избалованная вседозволенностью, боится своего раболепного народа?
— Отечественная история очень доходчиво учит: всякому терпению приходит конец. Собственно, единороссы прямым текстом говорят о своём страхе цветной революции в России.
— И какие же ужасные меры подавления протестов у нас вступили в силу?
— Закон о борьбе с экстремизмом, например. Или ты не видишь в нём ничего предосудительного?
— Я бы хотел в ближайшем будущем увидеть его отмену.
— Не боишься революции?
— Считаю лучшим способом борьбы с экстремизмом сокращение злоупотреблений со стороны государства, улучшение качества законодательной базы и повышение эффективности экономической политики, которые все вместе способствуют повышению качества жизни подавляющего большинства населения.
— Это самый трудный способ. Гораздо проще выхватывать из толпы наиболее активных и способных повести за собой других, — чуть улыбнулась Корсунская, и Саранцеву почудилась в её глазах издёвка.
— Ты, всё же, должна признать — мирных протестующих, как правило, никто не хватает.
— Как правило. А сколько исключений из правил?
— Я не могу заменить собой разом суды всех инстанций по всей стране.
— С учётом особенностей нашей правоприменительной практики, ты давно должен был бы внятно и вслух подвергнуть этот закон критике.
— Что значит «подвергнуть критике»? Я президент и обязан соблюдать все законы — нравятся они мне или нет.
— Подвергнуть критике — не значит отказаться его выполнять. Понятие экстремизма до предела расплывчато, по желанию под него можно подтянуть любое проявление гражданского протеста. Если какой-то местный суд уже признал экстремистским лозунг «Долой самодержавие», куда же дальше?
— Я не имею право отменить закон, установленный парламентом. Конституционный суд тоже не поможет: в тексте речь идёт о санкциях за незаконные действия. Призывы к насилию и разжигание ненависти у нас действительно запрещены.
— Тогда зачем понадобился ещё один закон?
— У Покровского спроси.
— Ты и спроси! Я с ним за ужином не встречаюсь.
— Как ты себе представляешь наши взаимоотношения? Думаешь, мы лучшие друзья?
— Сомневаюсь. Но работаете, тем не менее, вместе. И уже давно. А ты до сих пор не можешь ему странные вопросы задавать?
— У нас официальные отношения.
— Вот ты официально у него и поинтересуйся. Вопрос ведь не бытовой, а очень даже политический. Я просто понять хочу: чего он так боится?
— Девяносто первого года он боится, чего же ещё.
— Но он же не бабушка с авоськой! Государственный деятель не должен руководствоваться страхами — так вся страна действительно в трубу вылетит. Испуг ведёт к насилию. Знаешь, дикие животные — кроме крокодила, кажется, — нападают на людей исключительно ради самозащиты.
— А крокодилы?
— А крокодилы на людей охотятся. Они слишком давно живут на земле, мы для них — голые и беззащитные новички, добыча. Медленно бегаем, ни клыков, ни когтей, ни дублёной шкуры. Они помнят времена, когда на наших предков охотились все хищники, но теперь все вымерли. Остались только мы и они, но они продолжают нами питаться.
— Ну, и к чему все твои аналогии между государственными деятелями и дикими хищниками?
— Да я всё о страхе. Страны начинают войны, когда боятся внешней угрозы. А внутри страны пугливые политики развязывают террор. Людей ведь так много — как узнать, кто из них чинит тебе козни?
— Ты думаешь, Покровский боится?
— Конечно. Все так думают. Если нет, зачем столько возни?
— Какой возни?
— Вокруг непарламентской оппозиции. Забыл бы о ней и не вспоминал вообще, а он не может.
— Конечно, не может — ему на каждой пресс-конференции напоминают. Ты идёшь на поводу у интеллигентского общественного мнения. Если премьер или президент — значит, всенепремнно, не спит ночами в поисках новых методов удушения свободы. И ещё — всеми возможными и невозможными способами выкачивает из народа жизненные соки и облегчает жизнь олигархам.
— Не так примитивно, но примерно. Если более точно, вы в любой ситуации ищете наиболее простые и дешёвые выходы, а правильный выход иногда дорог и сложен. Как во всей этой катавасии с экстремизмом, например. Ты ведь сам сказал: лучше сокращать злоупотребления и повышать эффективность власти, но как раз здесь ничего и не делается.
— Так уж и ничего.
— Именно. Ничего! Вы можете сколь угодно долго транслировать по всем телевизионным каналам репортажи о встречах вождей с народом, но проблемы ведь решаются иначе. Должна работать система, в которой каждый отдельный человек все свои бытовые вопросы может решить сам или в своём населённом пункте. Президент и премьер, даже вместе взятые и очень старательные, проблемы коммунального хозяйства по всей стране не решат.
— Нет, Анечка, я с тобой не могу согласиться, — вмешалась Сыромятникова. — С одной стороны, ты всё правильно говоришь, но с другой — получается картина полного хаоса и развала при абсолютном беззаконии и бесчинствах чиновников. Они не ангелы, конечно, но страна всё же не гибнет, а живёт и развивается. Часть бюджета, безусловно, разворовывается, и мы могли бы жить гораздо лучше, но бюджет всё же есть, пенсионеры, учителя, библиотекари и прочие бюджетники живут далеко не так ужасно, как в девяносто втором. К тому же, Россия с самого семнадцатого года никогда не была так свободна, как сейчас. И в искусстве, и в публицистике, и в политике, и в экономике — куда ни глянь, везде самостоятельности и ответственности больше, чем когда бы то ни было за последние сто лет.