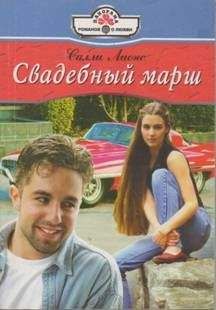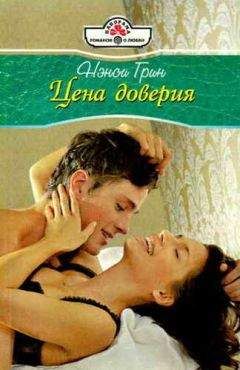Айрис Мердок - Ученик философа
В четверг утром Джордж обдумывал самоубийство. Он представлял себе различные способы умереть прямо в присутствии Джона Роберта или даже подстроить так, чтобы Джона Роберта обвинили в его убийстве. Эти фантазии были не очень утешительны, поскольку тоже содержали в себе идею настоящей смерти, а ее Джордж боялся и всячески бежал. Он поплакал. Потом некоторое время неподвижно просидел на диване в гостиной своего дома. Скомкал письмо Джона Роберта и отшвырнул его. Потом подобрал и снова посмотрел на него. Надо признать, он все-таки пробил защиту Джона Роберта; хотя бы на миг он безраздельно занял мысли философа. Это, конечно, важная поворотная точка. Письмо, конечно, нелепое, и Джон Роберт обязательно пожалеет, что его написал. Может, ответить ему, попробовать поиграть на этой струне? «Дорогой Джон Роберт, я уверен, что сейчас вы уже жалеете…» Нет, это не годится. Это письмо, пусть абсурдное, оставалось поступком, этот запах смерти сигналил о чем-то бесповоротном. Джордж верил в знаки. Письмо было знаком. Любовь и смерть взаимозаменяемы. Письмо гласило, что его отношения с Джоном Робертом достигли финала, пароксизма.
— Итак, все кончено, — сказал он вслух, — Итак… все… кончено.
И все же этот финал не был финалом в общепринятом смысле. Джордж еще немного посидел неподвижно.
Потом у него появилось чувство, словно его ум был лодкой, которую швыряло на скалы, тащило через пороги, а потом она внезапно выплыла в спокойном свете на безмятежное золотое озеро. Джордж почувствовал, как его натянутое, искаженное лицо расслабилось и разгладилось. Он задышал тихо и глубоко. Он подумал: «Это как будто я умер, только я не умер. Я живу жизнью после жизни, где все изменилось. Возможно ли, что я в самом деле покончил с Джоном Робертом Розановым и что это постигло меня как перемена бытия, как тайна, значение которой мне едва ли известно?» Он встал. Он пошел в кухню и поел супа. Был вечер. Джордж вышел в теплый, спокойный, неясный сумеречный воздух. Он пошел в ближайший паб, «Крысолов», и там узнал новость о смерти Уильяма Исткота. И ему показалось, что это тоже знак, что Ящерка Билль принес себя как невинную жертву, заменив собой его, Джорджа. Любовь достигла апогея и мирно скончалась. Он шел, дышал и чувствовал, как в нем поднимается теплое внутреннее сияние, которое, проявившись на лице, так изумило Тома Маккефри.
— Что за письмо? — спросила Диана. Она тоже видела сияние, исходившее от Джорджа, и оно ее беспокоило.
— От Джона Роберта.
— Хорошее письмо, доброе?
— Оно… скажем так… милосердное. О, милосердие… да… что такое? Смотри, я его сейчас сожгу.
Джордж встал на колени у камина, поджег уголок письма и стал смотреть, как оно горит на квадратиках решетки.
Диана смотрела в изумлении.
Джордж вернулся, сел на софу, и Диана скользнула на пол у его ног, как она часто делала, и положила руки ему на колени.
— Детка, ты меня любишь?
— Ты же знаешь, что да.
— Тот, кто кричит на рынке: «Репа! Репа!», но не кричит, когда умрет отец, он с головы до пяток — продавец, ему дороже репа, чем отец![131]
— Ты сегодня настроен дурачиться. Ты думаешь про своего отца? У тебя странный вид.
— Странный, да. Я чувствую себя так, как будто меня сломали и воссоздали заново за секунду… вернее, за полчаса. Что-то такое… словно кровотечение… что-то сломано внутри…
— По правде?
— Нет-нет, я же сказал «как будто», это все только в душе. Что-то смыто… омылось кровью…
— Как Христос.
— Да. Да. Не меньше. Я сказал, что мир сегодня полон знамений. И Ящерка Билль умер. Царствие ему небесное. Так что, у меня странный вид?
— Да. У тебя лицо стало другое… красивее…
— Да, по ощущению похоже. Налей мне еще, детка. Маленький Джон запрыгнул в бидон[132]. Мы еще поживем, мы их всех побьем, всех переживем. Ты знаешь, что сегодня за день?
— Какой день?
— Тот, которого ты ждала.
— О чем ты?
— Ты хотела, чтобы в конце концов я пришел к тебе. Сломленный, побитый, отвергнутый. И вот я пришел.
— Ох, Джордж…
— Да, и я сломлен, побит и отвергнут, но это совсем не так, как я думал, это как триумф — с фанфарами, барабанами… факелами, фейерверками, огнями — это день освобождения, Диана, ты слышишь приветственные крики толпы? Они знают, что мы победили. Налей себе, дорогая, и выпьем за свободу. Они хотели разбить нас, но разбили только наши цепи. Мы уедем, правда, как ты всегда хотела. Ты хочешь? У меня хорошая пенсия. Давай уедем и поселимся в Испании, там жизнь дешевая.
— Джордж, ты взаправду?
— Да. Диана, это оно. Когда человек не может не сделать то, что нужно. Мы будем жить в Испании, под солнцем, свободные. Мы заживем на мою пенсию как короли. Ты единственная, кто меня по-настоящему любит. Ты единственная, с кем я могу разговаривать, чье общество д ля меня выносимо. Поселимся на юге, у моря, и будем наконец счастливы. Иди, милая, ляг рядом со мной. Просто обними меня. Я разгадал загадку, все разрешилось. Надо просто дойти до точки и сломаться, чего проще. О, как мне спокойно. А теперь я хочу спать.
И Джордж мгновенно уснул мирным сном в объятиях Дианы.
— Вы хотите сказать, что вы меня любите? — спросила Хэтти.
— Да, — ответил Джон Роберт.
— Любите как… как дедушка или как… влюбленный?
— Второе, — тихо ответил Джон Роберт.
Они дошли до этого далеко не сразу.
Когда Джон Роберт шел в Слиппер-хаус, у него не было четкого плана. Ему очень хотелось увидеть Хэтти. Он сердился на девушек за глупость и неосмотрительность, которые — в чем бы они ни проявились — каким-то образом способствовали его унижению. Он был одержим Джорджем и Томом и не слишком раздумывал над неразумными поступками девушек; его не обуревало желание выяснить все детали, разобраться и наказать; идея передать другим часть своей боли не казалась ему заманчивой. Он просто чувствовал себя в целом несчастным, раненым, осмеянным. Допрос, к которому он, разумеется, не подготовился заранее, казался ему скорее обязанностью. Он, конечно, заметил в клеветнических статьях упоминания о Перл, но поначалу и не думал искать в них правды и действительно, на что и надеялась Перл, отмел их как чепуху. Он даже поначалу не осознал той существенной детали, что Перл оказалась сестрой Дианы, так как он был слишком занят другими мыслями. Он не мог предвидеть драматических событий, которые развернулись в четверг вечером, и того влияния, которые они окажут впоследствии на всю историю. Только когда он начал задавать вопросы, все эти идеи сошлись воедино, проснулись пытливые сократовские[133] инстинкты и заставили его загонять собеседников в угол, срывать покровы с истины, еще больше распаляя раненый ум и пробуждая неумеренную жестокость. Когда он обрушился на Хэтти, это внезапное, совершенно новое ощущение возбудило его, а когда он сделал шаг по направлению к ней, его настигла внезапная воспламеняющая вспышка подозрений и ревности к Перл.
Он, конечно, не планировал заранее, что заберет Хэтти. Стоило Джону Роберту увидеть Перл в новом свете — как главную злодейку в пьесе, — и это ощущение начало расти, питая и укрепляя самое себя. Все встало на свои места. Перл с самого начала была ужасной ошибкой. Он нанял ее как сторожевого пса, ангела-хранителя, гарантию уединения Хэтти, ее чистоты, удаленности от мира. Но на самом деле Перл решительно отделила Хэтти от него и украла ее любовь, которая, конечно, если бы он сам присматривал за Хэтти, досталась бы ему самому. Внезапная жгучая ревность к Перл пожрала настоящее и отравила прошлое. Поистине, Перл была не просто тактической ошибкой, а настоящей предательницей. Она завидовала Хэтти, у которой «было все, а у самой Перл ничего», она выдала планы Джона Роберта на замужество внучки, сговорилась с Джорджем и этой проституткой. Убежденность Джона Роберта, конечно, окончательно укрепилась после отвратительного признания в любви вслед за омерзительно грубым намеком на его тайну. Одного этого было достаточно, чтобы решить судьбу Перл.
Пребывание с Хэтти наедине в маленьком доме действительно успело потрясти и напугать философа, хотя сейчас было только утро пятницы. Даже в такси философ еще не понимал, как трудно им будет в одном доме. Он понял, до чего мал этот дом, лежа на отсыревшем диване-кровати в крохотной гостевой спальне, не смыкая глаз и слушая сначала плач Хэтти, потом — как она ворочается и вздыхает за стеной на его собственной старой железной кровати. В пятницу утром Джон Роберт встал как обычно, без пятнадцати семь, спустился вниз и начал готовить завтрак, хотя сам обычно не завтракал, а только выпивал чашку чаю. Он нашел в ящике буфета скатерть, которую когда-то вышила крестиком его мать. Расстелил скатерть на складном столике в гостиной, достал все нужное для кофе, яичницы и тостов. Он испытал странную боль и новое, особое наслаждение, накрывая на стол для Хэтти и одновременно думая, сколько раз мог бы проделывать это в прошлом и насколько теперь непредсказуемо будущее, насколько неясно значение любого маленького скромного жеста.