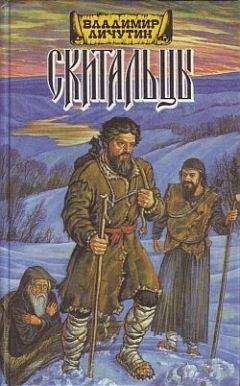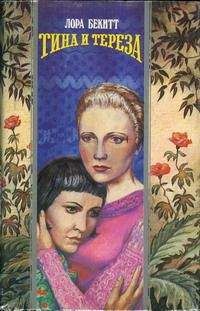Владимир Личутин - Скитальцы, книга вторая
Отходили из Березовой губы в самых благих намерениях, располагая к утру встретить Орлов мыс. А был второй день апреля.
Ночью в десяти верстах от мыса Орлова лодку застигло льдом; вытащились и заночевали у костерка. Чаю сварили, повечеряли чем Бог послал, так думая утром уже в бане намыться. Улеглись в лодке, сгрудились, и скоро сон взял свое. А пока спали, неожиданно подул крепкий юг, и отнесло бедняг обратно за Анзерский остров. Снег сыпал большой, сплошняком, куда влекло, где таскало – и невдомек. Лишь на третий день материковый ветер отпустил, снег кончился, и богомольцы нашли себя посреди ледяной пустыни, где воды и воробью не напиться. Хоть плачь, а надея лишь на себя, неоткуда ждать подмоги…
Глава четвертая
И приснилось Сумарокову, что он у позорного столба голый, от стыда не знает куда глаза деть, а зеваки регочут, свистят и улюлюкают, тычут пальцем: «Глядите-кось, наш исправник-то голый, да и с пустой казной». Никита Северьянович глянул на себя и поначалу испугался: Господи, где подобает достоинствам быть – там пустынно, словно никогда и не имелось. «Как мне теперь нужду-то справлять?» – снова ужаснулся Сумароков, но тут палач сломал над головою шпагу, да неловко у него получилось, небрежно, и концом шпаги порвало кожу на голове. Потекла из раны кровь, лицо залило, и, позабыв про стыд, обеими руками схватился Сумароков за рану, стараясь остановить кровь. И тут обрадовался, что ему и вовсе не стыдно стоять голым, ибо у него стыда нет, а значит, обе руки свободны. И он чего-то закричал, радый, что и тут вывернулся…
– Ваше благородие, а ваше благородие! – Король толкал Сумарокова в плечо, шепелявил.
Сумароков со стоном открыл глаза, не понимая, где он. Какой-то смуглый щербатый мужичонко над ним, неряшливая седая волосня завесила глаза, и Сумароков от неожиданности отпрянул, но тут же оправился, перевел дух.
– Я думал, вас черти на сковороду тягнут. Ну, думаю, пропал наше благополучие. Дай, думаю, ослобоню от напасти, – меж тем говорил Король, и с лица его не сходила та небрежная ухмылка, от коей в иное время оскорбился бы Сумароков. Но темя у Сумарокова взаправду ныло, он осторожно потрогал пальцем, нащупал длинный бугорок шрама, поморщился. От гражданской казни осталась эта отметина, как напоминание позора. Домогались и на душе оставить, ан нет, не по-ихнему вышло. Королю же сожитель показался вдруг слабым, достойным жалости, и он принялся утешать его, чтобы тут же взять верх. Но он не ведал тайного Сумарокова, живущего по своим законам. От жалости смерда Никиту Северьяновича лишь коробило, он кривился и воротил нос. А тому думалось, что Сумарокову плакать хочется.
– Вы шибко не переживайте. Это не тем позор, кто секет, но тем, кто под плетью. Вы-то не спытали, вашего брата не секут нынче, а я спытал. Как разложат да пропишут плетью ижицу вдоль спины да поперек, вот тут и вскричишь. – Король говорил скороговоркою, частил и подмигивал темным глазом, но в голубом с кровяными прожилками белке слоилась звериная сторожкость.
Нет, не прост Король: кандальные этапы, каторга и долгие бега слепили из него особую породу. Королю бы просто высечь арестанта, да и дело с концом; а он, вишь ты, хотел исполнить с той любовию и чистосердечием, от коей не томится душа. Размышления палача уязвили Сумарокова. Король будто прочитал его мысли и желанья.
– Ну ты, филозоп! От тебя смердит. Пшел прочь! – грубо оборвал Сумароков сожителя и прогнал, как собаку. Но смутно пожалел, что сурово высказался.
Ой худо начиналась новая жизнь, сплошные стычки. «Норов надо бы преломить, а то надорвешься, Никита Северьяныч, раньше времени. Хватит тебе одного врага, что нажил с первых тюремных шагов в лице смотрителя Волкова. И ты, смотритель, гляди! Придет мое времечко, воленс-ноленс, и я тебя постегаю».
От этой почти неисполнимой затеи Сумароков невольно повеселел, улыбнулся Королю, подмигнул и взбил повыше подушку:
– Ну да ты почаще мойся, я к тебе и приобыкну.
Король тут же простил недавнюю обиду, проглотил ее. Брань на вороту не виснет. Это же не кулаком в харю, когда юшкой умоешься и сам не знаешь за что. Тогда-то обидне-е… Он робко подсел с краю кровати и к Сумарокову и принялся развивать давешнюю мысль. Видно, не так уж просто и легко жилось Королю в нынешней должности, коли он постоянно оправдывался перед кем-то. Третий год справлял Король палаческую должность, приняв ее от Гаврилы Киприянова, бывшего пономаря, но вот привыкнуть не мог к тому презрению, что пеленою неслышно окутывало арестанта. Сумарокову, тому легко жить. Ему-то чего тужить, верно? Он хоть и прошлый, да барин. А барин барина завсегда не спокинет. Неладно станет Сумарокову иль тошнехонько, он собрал манатки да и прочь с тюремного замка, только и видали его. Им, барам, везде поблажка. Их на черствый кусок посади, тыном железным огради, чтобы не было доступа, а все одно отыщется из ниоткуда сдобный калач. Но и этого им покажется мало, и начнут они ныть, да стонать, да жаловаться на немилосердную жизнь с такою слезной мольбой, что невольно пожалеешь и смилостивишься. А ему, Королю, неоткуда ждать милости; только заартачься, заневольничай, тут тебе и выложат по филейным частям тридцать обещанных плетей да и сошлют в каторгу.
– Наша работа хлебная. При желании озолотиться можно, – шепелявил Король неразборчиво, но Сумароков понял.
– Да?! – Он задрал брови, разыгрывая недоумение.
– Ну, – заторопился Король. – У нас каждый в горсти. Ты, барин, прежнюю службу не жалей. Пропади она пропадом. Во всякой службе ты подневольный человек, всякий с тебя спросит да норовит побольнее поддать в самый дых. А здесь ты сам себе голова, и каждый пред тобою трусит, заискивает и боится. Всякому шкура своя мила, ну как ее не поберечь, а? Я-то прежде бегал этой должности, а нынь раскусил. По мне она, тепло-о, сытно. Хлебная работка…
– Я по интересу, а не ради выгоды какой, – вдруг выдал себя Сумароков и подивился, с какой легкостью признался в самом сокровенном.
Всякую работу можно оправдать, ежели сыщется к ней душевный интерес. Ведь иному головы рубить – нет важнее ремесла: тот человек себя кладет во главу мира. Сумароков еще не приступил к должности, он еще не разобрался в тонкостях будущего дела, но уже неисповедимыми путями почуял необыкновенность его. Ката страшатся, от него бегают, пред ним самый гордый склонит выю. Пред царем, поди, с таким страхом не клонят голову, как пред заплечным мастером. Исправника иль губернатора взять, ежели исхитриться, всякий обмануть может; но палача не провесть. Ты как пред судилищем, ты распят на дыбе, ты растелешен. Нет пущей неволи, чем под плетью заплечного мастера. Все в его желании, все в его старании, все в его власти. Вот даже, к примеру, рылом не понравился, иль не так смеется, как прочие, иль криво ходит человек – и это тебе жутко не по нутру. И ты его выходишь розгами с особым ожесточением, как кровного врага своего, и посчитаешь суровость эту за особую правду.
– Я по интересу в палачи попросился, – повторил Сумароков. – На чужих слезах не наживаюсь…
– А я что, а я что? Мне самому кусок в горло нейдет. Я лишь про то, к примеру, ежели захотеть, так озолотишься. С кого полтину, а с кого и четвертной. Ведь не просишь, не-е. Сами пехают, только смилостивься. Ну как тут не взять? Работка, скажу вам, намахаешься – плечо изноется. Не дармовой хлеб кушаем. Да чего я, сами все увидите…
В иных местах России не хватало деревьев для прутьев. В 1849 г. Таврическое и Херсонское губернские правления обратились к Киевскому с просьбой прислать для Таврической губ. 6000 пучков березовых розог, а для Херсонской 2000, так как в этих губерниях не было березовых лесов и не из чего было делать розги.
Порка вызывает у известной породы зевак некое сладострастие: от одного лишь вида униженного возникает у них тот несравненный жар, коий бывает лишь от редкого, необычайного чувства. Что такое случается с человеком, когда душа вроде бы мгновенно забывает о добросердии и жалости, глаза окутывает некая пелена жестокости и любопытства, и тело необъяснимо бросает то в дрожь, то в пот, и зевака забывает все на свете, не в силах совладать с собою. Мало ли народу сбегается на торговую площадь на казнь вроде бы из пустого любопытства лишь, и многие, в обычное время люди самые порядочные, толпятся, порою потупив взор, лишь из жалости и сострадания, а меж тем ни жалости, ни сострадания в тот момент нет и в помине, а лишь сладострастие и желание продлить сие удовольствие.
Если с зевакою случаются подобные перемены, когда жестокость, неслышно вливаясь в душу, вытравляет там все самое порядочное, то какой же необыкновенный розжиг плоти и духа наступает в палаче, добровольно записавшемся в кнутовые мастера.
Зевака опоминается и сознает, что в точности повторял мысленно все движения палача и горел, быть может, большей страстью, чем он, и тогда стыд заливает лицо, и спешит он прочь с торговой казни, проклиная себя и свою незадачливую жизнь. Сколько таких, давших слово никогда больше не бывать на торговой казни, но каждый раз какая-то необъяснимая сила тянет туда вновь и вновь…