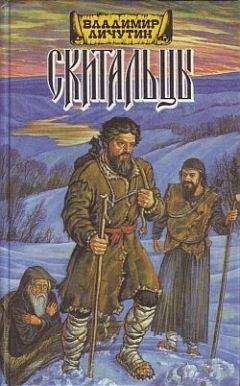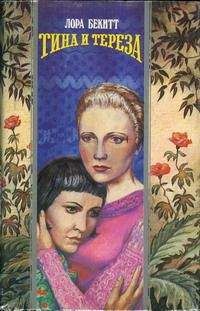Владимир Личутин - Скитальцы, книга вторая
Король встретил подручного с ухмылкою, зверино, для острастки сверкнул черными глазами, цвиркнул слюною на грязный, затоптанный пол.
– Располагайся, мужичок, – дурашливо взмахнул он рукою, будто дарил весь белый свет. – Да ты уважай, будь другом. Я уважливых страсть люблю.
С этими словами Король осекся и замолчал от того неведомого страха, который внезапно приступает к нам порою, когда мы видим человека с застойным оловянным взглядом. «Лупоглазые-то шибко злые», – сразу приметил Король. Он был по натуре сметливым человеком, мокрых дел не любил, а если и пугал кого, то лишь для острастки, но не для власти. Король был вольным человеком, это нужда его принудила в палачи; он не любил ставить людей на колени, но страсть хотел, чтобы уважали его, и потому наваливался арапом, давил словами. Он сразу смекнул, что за человек пред ним и которой породы.
– Вон постеля ваша, милостивый государь. Может, с дороги отдохнуть хоцця или чего другого извольте-с, так вы не стесняйтесь, справляйте свои надобности!
Король встал, услужливо принял из рук Сумарокова баул. Сумароков же молчал, мглистым недобрым взглядом оглядывая предстоящее житье, и приказал убрать помещение. Король никогда не был шестеркою и по должности нынешней сам мог давить подручного, но тут не восстал, принес лохань с водою и принялся мыть комнату. Сумароков сел на кровать, широко расставив ноги, и глядел, как елозит на коленях его сожитель, презирая его и ненавидя. И вдруг повалился на кровать, не брезгуя застиранным бельем, и с наслаждением растянул замлевшие члены. Он как-то скоро, легко заснул, и в томительном сне пришла к нему соблазнительная «ночная бабочка», коих, бывало, он с удовольствием сек в кордегардии.
Глава третья
На одном из долгих переходов через Сыгву и Ляпин встретился торговым людям ободранный дикий человек неопределенного возраста, коего можно было назвать и древним стариком по угрюмо заросшему обличью, до костей изъеденному морозом и голодом. Он назвался Донатом и шел из неведомого им беловодского согласия. Одежда на его плечах истлела от ветхости, но скиталец, несмотря на уговоры, только и снял ее затем, чтобы постирать и подштопать, а после вновь надел на голое тело, он не давал прикасаться к своему платью, почитал его за святое и что-то говорил о Беловодье, темно и невнятно. Приказчики были из поморского согласия, ласковым обхождением подняли беднягу из могилы, пока добрались до Печоры. Возле Илыча, попрощавшись сердечно, странник пошел прочь по реке, а появился уже в Чердыни. Судьба, видимо, крепко благоприятствовала ему и стерегла от звериной никудышной смерти. Оттуда он отправился на Светлояр, несколько раз нырял, пытался проникнуть в святой град Китеж. На одном из холмов Донат Богошков вырыл себе землянку и там прожил лето, питаясь скудно и держа тело в привычной строгости. Он каждое утро спускал на озеро самодельный кораблик с горящей свечою и наблюдал, как гонит его ветер, и все ждал, когда явится из озера настоятель града Китежа и пригласит Доната в гости. Но когда собиралась толпа паломников, Донат взбирался на матерую сосну, от земли голую сажени на три, и кричал зычно, чему учил Елизарий: «Было Беловодье, да сгибло от вашей лености и гордыни! Над тенью града Китежа наущаю вас, дети мои! Внемлите искреннему простодушному слову моему. Сгибло Беловодье, и неча более стремиться туда, каждый сам себе постройте Беловодье в своей земле и в своей душе. Не шатайтеся понапрасну, от пустого шатанья земля меркнет, как старая дева. Душу устраивайте в братней любви, любите всех…» Прослышал о бродяге становой пристав, прибыл с полицией брать его к допросу с пристрастием. Но допрежь был Донат Богошков остережен богомольцами и отправился окольными дорогами к Нижнему Новгороду и далее на Архангельск с единственной мыслью – побывать в отчем доме; хоть и никого из родичей не осталось на земле, уж кровь, казалось, должна остыть, ведь никто вроде бы не манил на Мезень, но что-то неукротимо позывало в родимые места. Думалось, дойти бы только, глянуть украдкою, одним глазком, да коли судьба выпадет, то и помереть там. Обуреваемый лихорадкою, спешил Донат, мало где приворачивая по адресам; ему не нужна была подорожная по казенной надобности, почтовые станции не держали его, ямщицкая гоньба не попирала; скрытые староверские пути надежно, скоро вели скитальца от деревни к деревне.
В марте пятьдесят третьего года он оказался в Архангельске, но море до Мезени было закрыто льдами. Донат решил навестить Соловецкий монастырь. Отбыл Богошков с Соловецкого подворья вместе с послушником Ефимом Харитоновым, полагая за месяц обернуться. А весь путь таков: из Архангельска до мыса Орлова почта шла сухим путем по берегу моря, от мыса Орлова – водою тридцать пять верст к острову Клуксолмам до монастырского скотного двора, а там опять же пятнадцать верст до монастыря сухим путем. Лошадьми без проволочек добрались до мыса Орлова, а там отправились на монастырской мореходной лодке прямо в монастырь. Кроме послушника оказалось еще человек пять богомольцев да мальчонка по обету, сын одного из поморян, назначенный отцом в трудники. Был мальчонка не по летам серьезен, из глаз его, пронзительно-синих, расширенных от непонятного и тайно увиденного, не сходила болезненная печальная поволока. Заросший русым кудрявым волосом, он часто утыкался в малицу отца, словно бы искал защиты от непогоды, и крестьянин с одутловатым лицом, прокопченным ветрами, мало похожий на родителя этого мальчишки, с кроткою, бережной лаской гладил отрока по лицу.
Донат уместился на тюки, средь трудового народа, и почувствовал ту полузабытую свободу на сердце, с какою легко и смирно живется на свете. Так почудилось, что на родине милой и окружают его давно знакомые люди. Небо было серым, низким и тоже кротким, с него сыпался с тихим шорохом такой же кроткий неутомимый снег, засалившаяся вода с натугою разваливалась надвое под носом лодки. Но ветер стоял попутный. Сзади лодки болталась на привязи лодчонка-душегубка, она порскала по мелкой волне и невольно притягивала взгляд. Все напоминало родные края, и синие бычьи лбы, наступающие с берега на море, постоянно тревожили сердце; за ними, если удариться в полуночную сторону, и было Помезенье. Когда обжились в лодке, обустроились, пошли разговоры.
– Вот смотри ты на экое чудо. Кому страх, а нам самое обыкновенное дело, – начал одутловатый крестьянин, очередной раз оглядываясь на душегубку, рыскающую на привязи. – Ты-то, братец, с каких будешь мест?
– С Нижнего Новгорода, – коротко отозвался Донат и невольно смутился.
– Дак тебе, поди, все внове? А наш-то брат помор ухитрился плавать в экой лодчонке на море-окияне, да если случись, так и вдвоем, значит, да под полный груз, когда вровень с бортами, за нашвы-то чуть не льется. Сиди и не дыши, чуть маленько на сторону колыбнулся, голубушка и черпнет, что ложка ухи. Ну а потом известное дело куда – ко дну за рыбой. Обыкновенно в тихую-то погоду да коли близко, так она ничего, голубушка, она своего не выдаст, – говорил помор о душегубке, как о родном близком человеке. – Ну, а в непогодушку-то разве отпетый да шальной какой, примерно, сунется, а тому, как известно, море-окиян по их колена, такой отчаюга и беспримерный к подвигу человек.
Помор замолчал, зевнувши, и с некоторою тоскою, столь необычной для умудренного человека, оглядел сына, растерянно упершегося взглядом в небо: тонкая шея встала из глубокого круглого ворота холщовой рубахи, и видно было, как по упругой жиле течет напряженная жизнь. Донат не снимал взгляда с мальца и чувствовал свое родство с ним, будто бы в одном горе потерялись, одной болезнью занедужили и сейчас ждали помощи от монастыря, где сымется тягость. А разговор не умер, он затеплился, и Донат пил те слова, как хмельной настоявшийся мед: душа его тихо тосковала.
Лишь ночью достигли благополучно Соловецкого острова, вошли в Березовую губу. Было морозно, лунно, море задумчиво чернело, едва мерцая перьями волн. У пристани встретил монах, и все, топая бахилами, отправились по скалистой тропе.
С неделю, наверное, пробыл Донат Богошков в обители, отстоял молебен по отцу-матери и с той же монастырской почтой отправился в Архангельск. Из прежних попутчиков оказалось двое: тот, одутловатый лицом, рыжебровый крестьянин из Пурнемы Василий Абрамов да смуглый басалай с холщовым, туго набитым мешком за плечами. Съездил человек на промысел, отоварился, а теперь подале с глаз, пока не замели. Был басалай слегка пьян, и хмельные глаза горели нестерпимым огнем.
Отходили из Березовой губы в самых благих намерениях, располагая к утру встретить Орлов мыс. А был второй день апреля.
Ночью в десяти верстах от мыса Орлова лодку застигло льдом; вытащились и заночевали у костерка. Чаю сварили, повечеряли чем Бог послал, так думая утром уже в бане намыться. Улеглись в лодке, сгрудились, и скоро сон взял свое. А пока спали, неожиданно подул крепкий юг, и отнесло бедняг обратно за Анзерский остров. Снег сыпал большой, сплошняком, куда влекло, где таскало – и невдомек. Лишь на третий день материковый ветер отпустил, снег кончился, и богомольцы нашли себя посреди ледяной пустыни, где воды и воробью не напиться. Хоть плачь, а надея лишь на себя, неоткуда ждать подмоги…